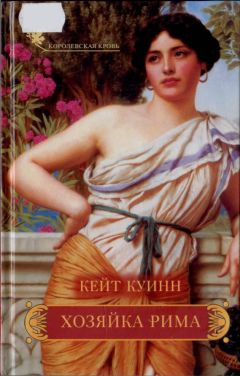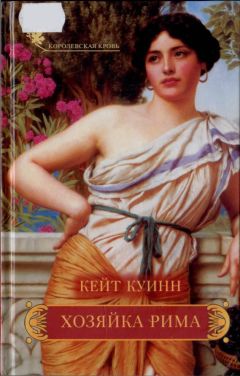Ознакомительная версия.
Из шестидесятых
Кончается рабство на свете, холопство кончается.
Кончается так, что земля под ногами качается.
И хочется столько от этого выпрямить, выправить,
и хочется так из души это рабское вытравить,
издревле холопское, робкое и раболепное,
покорно твердящее лживое слово хвалебное.
А кто-то надеется, кто-то серьезно надеется,
что снятое с шеи обратно на шею наденется.
А кто-то упрямо надеется – все перемелется,
на круги свои возвратится и не переменится.
Но в тесной коробочке маятник тихо качается.
О к рабству привыкший! – мне жаль его – как он отчается,
когда он увидит, что почва и вправду качается,
когда он поймет, что действительно это кончается.
– Скажите, поэты, а как вы, поэты, живете?
И где вы живете? И что вы там пьете-жуете?
И нет ли порою нехватки в жирах или мясе?
А может, и вовсе на хлебе сидите да квасе?
– Ну что ты, читатель, да ты не волнуйся напрасно!
Живем мы неплохо, и даже скорее – прекрасно.
Питаемся сытно, на завтрак – вино и бекасы.
А после нам денежки на дом приносят из кассы.
И тесной гурьбою, с карманами полными денег,
идем мы на рынок – гусей покупать да индеек.
А после гуляем по вечнозеленому лугу,
стихи сочиняем и тут же читаем по кругу.
И критики наши, на редкость душевные люди,
лавровые ветви разносят на розовом блюде.
И добрый редактор, взволнованный свежей строкою,
слезинку восторга тайком утирает рукою…
Вот так и живем мы и пишем бессмертные строфы —
вблизи от Парнаса, а также вблизи от Голгофы.
И дуем коньяк под лимоны и черное кофе —
вблизи от Парнаса и все-таки ближе – к Голгофе.
«Кругом поют, кругом ликуют…»
Кругом поют, кругом ликуют.
Какие дни, какие годы!
А нас опять не публикуют.
А мы у моря ждем погоды.
А в наши ямбы входит проза.
А все прогнозы так туманны.
А нам пойти купить бы проса,
а мы всё ждем небесной манны.
И вот певец недоедает.
Не ест жиры и углеводы.
Потом ему надоедает,
и он уходит в переводы.
И мы уходим в переводы,
идем в киргизы и в казахи,
как под песок уходят воды,
как Дон Жуан идет в монахи.
О келья тесная монаха!
Мое постылое занятье.
Мой монастырь, тюрьма и плаха,
мое спасенье и проклятье!
Мое спасенье и проклятье,
мое проклятое спасенье,
где ежедневное распятье
и редко-редко воскресенье.
Себя, как Шейлоку кусками.
Чужого сада садоводы.
А под песком, а под песками
бурлят подпочвенные воды.
А свечка в келье догорает.
А за окошком ночь туманна.
И только сердце замирает —
ах, донна Анна, донна Анна!
Я знаю, никакой моей вины…
А все же, все же…
1
Генерала Карбышева
пытали,
мучили
и убили.
Кто?
Немцы. Враги.
Страшно.
Маршала Тухачевского
пытали,
мучили
и убили.
Кто?
Жутко.
Нашим убитым,
нашим замученным
мы даже памятник не поставили.
Кто же мы,
что же мы за народ?
Стыдно.
2
Который год мне не дает покоя
все то же неотступное виденье.
… В тот миг, когда державные часы
на Спасской башне отбивают полночь,
когда еще не смолк, не отзвучал
тяжелый звон —
с двенадцатым ударом
они на площадь Красную вступают
и начинают шествие свое —
за рядом ряд, колонна за колонной,
и, как штандарты воинских частей,
плывут над ними стяги, на которых,
как номера дивизий и полков,
стоят – двадцать девятый, и тридцатый,
и тридцать третий, и тридцать четвертый,
и тридцать пятый, и тридцать седьмой,
и все другие годы остальные,
их путь перечеркнувшие земной —
за рядом ряд, колонна за колонной,
по затемненной площади ночной,
как равные в своем печальном марше,
воистину как равные впервые,
и сеятель с котомкой за плечами,
и академик в лагерном бушлате,
и комиссар в изодранной шинели,
в остроконечном шлеме, на котором
горит пятиугольная звезда…
– Зачем, – я говорю им, – и куда
идете вы, мне душу надрывая,
беззвучные и легкие, как тень?
– Мы к вам идем, в сегодняшний ваш день,
и в завтрашний ваш день, и в день грядущий,
еще и вам невидимый пока,
мы к вам идем – куда ж нам друг без друга,
мы память, что жестока и горька,
и мы ее горчайшая строка,
но в памяти – грядущему порука,
цена ж забвенья слишком высока! —
за рядом ряд, колонна за колонной,
как равные, в своем печальном марше,
как равные, в своем посмертном братстве,
и нету им ни края ни конца.
3
Эти убили, а эти ославили.
Кто ж наши Каины?
Где ж наши Авели?
Даже могил не оставили.
Горько в родимой земле им лежать.
Нашим убитым,
нашим замученным
мы даже памятник не поставили.
Стыдно.
И не за что нас уважать.
… А теперь рассуждаем
о справедливости,
о совестливости,
о милосердии…
… А наши дети танцуют рок,
легко покидая отчий порог,
и школьный урок не идет им впрок,
и каждый пляшущий – их пророк.
А мы удивляемся,
мы раздражаемся,
мы огорчаемся
и сокрушаемся —
ах, наши дети
нас обижают —
не уважают,
не уважают!
А за что им, простите, нас уважать?
…Да, конечно, обидно – не уважают,
шумной музыкой душу свою ублажают —
эти быстрые ритмы они обожают,
до поры не желая иных взамен.
Ну и ладно, и пусть их, пусть обожают —
если нас наши дети не уважают,
значит, все-таки можно ждать перемен!
Сейчас эпоха прессы.
Вестей – невпроворот.
И вызывает стрессы
газетный разворот.
И есть такие факты,
что радуют одних,
а у других инфаркты
случаются от них.
И есть такие вести,
что кое у кого
рождают жажду мести
и более того.
Газетная колонка —
убористый петит —
порой, как похоронка,
из прошлого летит…
Идет эпоха прессы,
и в сутолоке дней
все наши интересы
смыкаются на ней.
И я уж не писатель,
как Игрек или Зет,
а вдумчивый читатель
журналов и газет.
И сызнова, и снова
все сходится на том,
что прежде было Слово,
а прочее – потом.
«Это Осип Эмильич шепнул мне во сне…»
Это Осип Эмильич шепнул мне во сне,
а услышалось – глас наяву.
– Я трамвайная вишенка, – он мне сказал,
прозревая воочью иные миры, —
я трамвайная вишенка страшной поры
и не знаю, зачем я живу.
Это Осип Эмильич шепнул мне во сне,
но слова эти так и остались во мне,
будто я, будто я, а не он,
будто сам я сказал о себе и о нем —
мы трамвайные вишенки страшных времен
и не знаем, зачем мы живем.
Гумилевский трамвай шел над темной рекой,
заблудившийся в красном дыму,
и Цветаева белой прозрачной рукой
вслед прощально махнула ему.
И Ахматова вдоль царскосельских колонн
проплыла, повторяя, как древний канон,
на высоком наречье своем:
– Мы трамвайные вишенки страшных времен.
Мы не знаем, зачем мы живем.
О российская муза, наш гордый Парнас,
тень решеток тюремных издревле на вас
и на каждой нелживой строке.
А трамвайные вишенки русских стихов,
как бубенчики в поле под свист ямщиков,
посреди бесконечных российских снегов
все звенят и звенят вдалеке.
«Я видел вселенское зло…»
Я видел вселенское зло.
Я всякого видел немало.
И гнуло меня, и ломало,
и все-таки мне повезло.
Мне дружбу дарили друзья,
и женщины нежно любили.
Меня на войне не убили,
мне даже и тут повезло.
Еще повезло мне, что вот
я дожил до вашей эпохи,
где вовсе дела мои плохи
и зыбок мой завтрашний день.
И все же я счастлив, что смог,
что дожил до этого мига,
до этого мощного сдвига
тяжелых подземных пород.
Я видел начало конца,
и тут меня Бог не обидел,
я был очевидцем, я видел
начало грядущих начал.
Я дожил, мне так повезло,
я видел и знаю наверно —
история движется верно,
лишь мерки ее не про нас.
И все ж до последнего дня
во мне это чувство пребудет
я был там, я знаю, что будет
когда-нибудь после меня.
«Сплю Я. Но Сон Мой Странен…»
Сплю Я. Но Сон Мой Странен.
Холодно Мне. Знобит.
То Ли Я Пулей Ранен,
То Ли Совсем Убит.
Вот Он Я, Среди Поля.
В Небе Горит Звезда.
Девочка Моя, Оля,
Ты Не Ходи Сюда.
Здесь Еще Пули Свищут,
Взрывы То Там, То Тут.
Скоро Меня Отыщут.
Скоро Меня Найдут.
Дальняя Канонада.
Зарево Впереди.
Это Тебе Не Надо.
Ты Сюда Не Ходи.
Это Не В Самом Деле.
Это Не Наяву.
Это Не Пуля В Теле —
Это Я Так Живу.
Всё У Меня В Порядке.
Скоро Меня Спасут.
Скоро На Плащ-Палатке
В Тыл Меня Унесут.
Кто-То Склонится Возле
Койки, Где Я Лежу…
Всё Это После, После
Я Тебе Расскажу.
Ознакомительная версия.