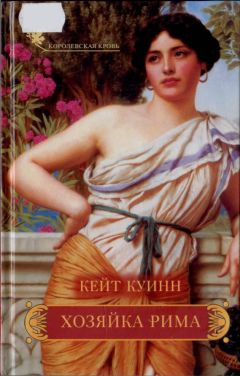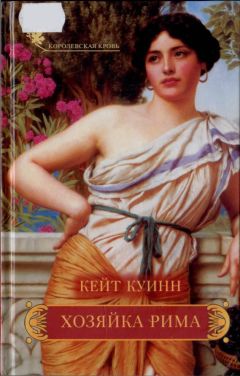Ознакомительная версия.
«Зачем послал тебя Господь…»
Зачем послал тебя Господь
и в качестве кого?
Ведь ты не кровь моя, не плоть
и, более того,
ты даже не из этих лет —
ты из другого дня.
Зачем послал тебя Господь
испытывать меня
и сделал так, чтоб я и ты —
как выдох и как вдох —
сошлись у края, у черты,
на стыке двух эпох,
на том незримом рубеже,
как бы вневременном,
когда ты здесь, а я уже
во времени ином,
и сквозь завалы зим и лет,
лежащих впереди,
уже кричу тебе вослед —
постой, не уходи! —
сквозь полусон и полубред —
не уходи, постой! —
еще вослед тебе кричу,
но ты меня не слышишь.
Зеркало
(Из ненаписанных стихотворений)
В странствиях своих
по Сибири,
по сибирскому югу,
по древней земле хакасов,
я обнаружил однажды
в местном музее
латунное зеркало,
найденное при раскопках
в здешних курганах,
принадлежавшее некогда
правителям из династий
Тан, Сун и Мин, —
латунное зеркало,
сохранившее
на обратной своей стороне
хорошо различимую надпись:
«Спрашивал Конфу-цзы:
– Почему весел? —
Отвечал Юн Ци-Ци:
– Потому что человек,
мужчина
и живу».
Вот воистину
философия
мудрая
и простая,
такая заманчивая
формула
веселья и оптимизма —
что долгие годы потом
я старался,
насколько возможно,
следовать ей
и жить в соответствии с нею.
…Ныне,
когда веселье мое
по понятным причинам
убывает
все боле и боле,
я спрашиваю себя временами
с тревогой:
– Почему невесел? —
И хватаюсь,
как за соломинку,
за последнее это —
живу! —
полагая, что в нем,
в конце концов, тоже
есть некоторое основанье
для веселья
и оптимизма.
И снова с облегченьем и с надеждой
перевернем последний лист февральский,
последний зимний
календарный лист.
…Рассветный воздух зябок был и мглист.
Еще горел фонарь через дорогу.
Светились близлежащие дома.
И я, вздохнув —
ну вот и слава богу,
еще одна закончилась зима! —
перевернул февральский лист последний.
И сразу марта первое число
передо мной взошло
и проросло,
как стебель
и как первая травинка
(как знак неотвратимых перемен,
как якобинства тайный иероглиф),
и тотчас же фонарь ночной потух,
и в воздухе разлился вольный дух,
крамольный дух лесов и дух полей,
дух пахоты
и дух цареубийства.
«Я руку и сердце нарисовал…»
Я руку и сердце нарисовал
красками на картоне.
Там сердце мое, как червовый туз,
лежит на моей ладони.
И так как полцарства нет у меня,
а тем более – полумира,
прими от меня этот скромный дар
в качестве сувенира.
А дабы значенье ему придать
дарственной, что ли, вроде,
я выведу крупно карандашом
надпись на обороте —
мол, руку свою и сердце свое,
аки жених во храме,
дарит старый король трефей
юной бубновой даме.
А понеже полцарства нет у него,
а тем паче нет полумира,
сей скромный дар он просит принять
в качестве сувенира.
Ну, а коль не изволит она его
честью почтить такою —
она может вернуть ему сердце его
вместе с его рукою.
Жить среди книг —
хотя б и не читая,
лишь ощущать присутствие вблизи,
как близость леса
или близость моря, —
вот лучшее из одиночеств.
Потомственный квартиросъемщик,
в очередном своем чужом жилище
я первым делом расставляю их
на полках, на шкафах,
везде, где только можно,
прилежно протираю влажной тряпкой,
и, завершив привычный ритуал,
смотрю на них едва ль не вожделенно,
как тот скупой в своем подвале тайном,
приподымая крышку сундука,
где все его сокровища хранятся, —
воистину, какой волшебный блеск!
Как я сейчас богат!
Едва ли кто сравнится
со мной в моем богатстве!
Отныне здесь мой дом,
и я в нем жить могу —
я чувствую себя в своем кругу
и потому спокойно засыпаю —
и словно бы лежу на океанском дне,
куда сквозь толщу вод доносятся ко мне
неясный шелест, шорох, тихий шепот,
и топот ног,
и звуки многих голосов,
и, чуть освоясь в их нестройном хоре,
я вскоре начинаю понимать,
что квартирую ныне в Эльсиноре,
в жилище обедневших королей,
сняв комнату за пятьдесят рублей
(что в наши времена – почти что даром),
и вот сегодня с самого утра
здесь собрались заезжие актеры
и происходит странный карнавал
иль некое дается представленье,
и я слежу, как движется сюжет,
где Дон Кихот
шлет вызов Дон Жуану,
где Фауст искушает донну Анну,
а бедный Лир
уходит на войну —
она уже идет четыре года,
а может, сто четыре или больше,
и я устал от долгого пути,
от мин, от артобстрелов, от бомбежек,
меж тем снаряды рвутся где-то рядом,
а я никак подняться не могу,
я должен встать,
я не могу подняться,
я задыхаюсь, я едва дышу —
все кончено, я гибну, донна Анна!
И меркнет свет,
и я лечу куда-то в бездну,
в последний миг услышать успевая,
как возглашает Главный Лицедей,
решительно на этом ставя точку:
– Все в мире, господа, – война детей,
где, впрочем, каждый умирает в одиночку!..
И сразу рушится в кромешный мрак ночной
мой зыбкий мир,
мой Эльсинор очередной.
Сквозь годы
(Из ненаписанных стихотворений)
Прохожу по рынку,
словно иду сквозь годы.
– Молодой человек, —
окликают меня
в цветочном ряду, —
вот, пожалуйста, —
замечательные хризантемы!
– Мужчина, —
взывает ко мне
продавщица фруктов, —
посмотрите, какие персики, —
специально для вас!
– Папаша, —
вопрошает меня девица,
торгующая овощами, —
не желаете ли капустки
для свеженьких щец?
А паренек по соседству
кричит мне
чуть не в самое ухо:
– Дедуля,
укропчика не забудьте,
петрушечки
не забудьте купить!
И я малодушно,
едва ль не бегом,
возвращаюсь туда,
где продают
ненужные мне
хризантемы,
в тайной надежде
снова услышать —
молодой человек,
молодой человек!
Предзимье (Попытка романса)
Я весть о себе не подам,
и ты мне навстречу не выйдешь.
Но дело идет к холодам,
и ты это скоро увидишь.
Былое забвенью предам,
как павших земле предавали.
Но дело идет к холодам,
и это поправишь едва ли.
Уйти к Патриаршим прудам,
по желтым аллеям шататься.
Но дело идет к холодам,
и с этим нельзя не считаться.
Я верю грядущим годам,
где все незнакомо и ново.
Но дело идет к холодам,
и нет варианта иного.
А впрочем, ты так молода,
что даже в пальтишке без меха
все эти мои холода никак
для тебя не помеха.
Ты так молода, молода,
а рядом такие соблазны,
что эти мои холода
нисколько тебе не опасны.
Простимся до Судного дня.
Все птицы мои улетели.
Но ты еще вспомнишь меня
однажды во время метели.
В морозной январской тиши,
припомнив ушедшие годы,
ты варежкой мне помаши
из вашей холодной погоды.
«Свеченье протуберанцев…»
Свеченье протуберанцев.
Смещенье солнечных пятен.
Как мир этот необъятен,
и темен, и непонятен.
Пред храмом его высоким
бессильно толпясь у входа,
одни говорят – Всевышний! —
другие твердят – Природа!
Я ввысь возношу ладони,
куда и кому не зная.
Небесная твердь безмолвна.
Безмолвствует твердь земная.
К кому ж я опять взываю
так набожно, так безбожно —
простите меня, простите! —
помилуйте, если можно?
«…Пять лебедей у кромки Рижского залива…»
…Пять лебедей у кромки Рижского залива…
…В том теплом и бесснежном январе…
Мы с дочерью. Мы с ней почти одни.
Семнадцать дней. Два грустных пилигрима.
Два путника беспечных и счастливых.
Почти одни на опустевшем побережье.
Мы кормим чаек. Мы бросаем им
остатки наших пиршеств королевских.
А за спиной у нас большой прозрачный дом,
где дышат морем деревянные ступени
и пахнет хвоей, пахнет елкой новогодней,
почти осыпавшейся, вновь напоминая
о том, как быстро все проходит в этом мире.
Ах, дочь моя, Корделия моя,
все скверно в нашем бедном королевстве,
и мы с тобой так сильно жаждем чуда,
что, видно, уж нельзя ему не быть…
Так вот,
когда мы приходим к морю последний раз,
чтобы с ним проститься,
и, как велит обычай,
швыряем в воду монетки,
готовясь уже уйти, —
именно в этот момент,
взявшись невесть откуда,
возникают они перед нами,
такие нездешние
в величавой своей отрешенности,
в отстраненности ото всего,
что нас окружает,
и проплывают медленно перед нами —
пять лебедей у кромки Рижского залива,
пять белых птиц, как пять надежд,
пять обещаний,
пять нотных знаков, пять легчайших звуков,
начальных звуков нисходящей гаммы,
где первый по ранжиру – лебедь До,
а дальше лебедь Ре и лебедь Ми,
и Фа и Соль, два малых лебеденка,
и то, что не хватало Ля и Си,
сама незавершенность этой гаммы,
она-то и была как обещанье,
намек на что-то, что должно свершиться, —
что минет срок
и гамма завершится,
и в некий час
раскроется Сезам,
и сбудутся все наши ожиданья…
Спасибо всем обычным чудесам,
дарующим надежду!
До свиданья,
до встречи, До,
до встречи, Ля и Си!
По сути, нам совсем немного надо —
всего пустяк – была бы лишь надежда.
Покуда есть надежда – можно жить.
«Чешский поэт Владимир Голан…»
Ознакомительная версия.