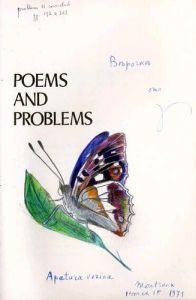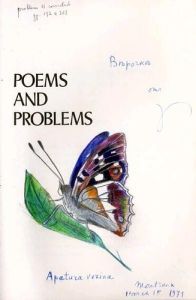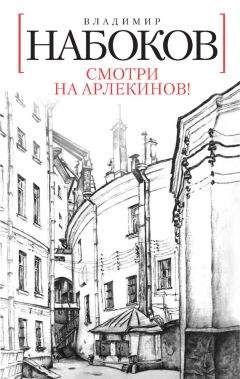В Крыму Набоков сочинил свою первую поэму «Светлой осенью», в которой, по сообщению Б. Бойда (Русские годы. С. 175–176), впервые описал свой «цветной слух» (audition colorée) — причем не только цвет букв, как в «Даре» и автобиографии, но и более общее проявление синестезии — соотнесение определенных букв с разнообразными визуальными впечатлениями. Оптическим лейтмотивом этой поэмы служат цветные стекла вырской веранды — образ веранды или беседки с «арлекиновыми стеклами» будет потом повторяться во многих произведениях Набокова как символ воспоминания и творчества.{30} Эту поэму Набоков из Крыма послал Люсе Шульгиной: «Стихи о Выре, которые Вы одна можете понять» (Бойд. Русские годы. С. 176).
В конце марта 1919 года Набоковы эвакуировались из Ливадии в Севастополь, а оттуда 2 (15) апреля, под звуки большевистской канонады на греческом судне «Надежда» покинули Россию и высадились в афинском порту Пирей, где провели три недели, — В. Набоков написал несколько стихотворений об Акрополе и имел три любовных романа. В мае Набоковы через Францию добрались до Лондона, где их встретил Константин Дмитриевич Набоков, брат отца, дипломат (представитель сначала Российской империи, потом Временного правительства в Англии, в сентябре 1919 года он был уволен). Во время четырехмесячного пребывания в Лондоне Набоков писал в среднем одно стихотворение в три дня, перевел Лэндора и О'Салливэна из антологии ирландской поэзии, одно свое стихотворение — на английский и сочинил первое стихотворение на английском — «удручающе пресное», по характеристике читавшего его в архиве Б. Бойда (Русские годы. С. 199); в его альбомах ритмические схемы по Белому сменились шахматными задачами. Набоков, по совету Глеба Струве, поступил в Кембридж и позже утверждал, что воспользовался для этого дипломом своего друга и одноклассника Самуила Розова, который в Кембридже выдал за свой (выпускники Тенишевского имели право поступать в британские университеты без экзаменов).{31} Родители Набокова после года пребывания в Лондоне вместе с тремя младшими детьми перебрались в Берлин, где его отец вместе с И. В. Гессеном и А. И. Каминкой редактировал газету «Руль».
С 1 октября 1919-го до июня 1922 года Набоков учился в Кембридже (Trinity College), сначала на отделении ихтиологии, потом — когда надоело «кишки разматывать в уже / лаборатория уже / мне больше не казалась раем» — французской и русской литературы, стипендию получал от эмигрантской берлинской организации. Позже Набоков последовательно выстраивал образ изгнанника, одиночки, чужого всему в Кембридже, разочаровавшего его несовпадением с образом петербургского «викторианского» детства в англоманской семье: вся жизнь в британском университете была «длинной чередой неловкостей, ошибок и всевозможных провалов и глупостей, включая романтические».{32} Набоков утверждал, что всячески избегал английских влияний из страха «забыть или засорить единственное, что успел я выцарапать, довольно, впрочем, сильными когтями, из России», был занят только тем, чтобы «удержать Россию», сохранить свою русскую речь (см. эссе Сирина «Кембридж» (Руль. 1921. 28 октября, перепечатано в: Набоков I. С. 725–728), главу двенадцатую «Других берегов»), для чего реальный Кембридж, «приволье времени и простор веков», служил только рамой и ритмом. Своему кембриджскому рукописному альбому стихов он дал заглавие «Nostalgia».{33} Эта романтическая позиция (аналог которой Набоков не без иронии находил в своем одиночестве голкипера на футбольном поле) воплотилась как в кембриджских стихах, отобранных для сборника 1979 года, так и в тех, что остались неопубликованными в архиве. Характерной чертой набоковской ностальгии является апострофирование собирательного образа утраченных родины и возлюбленной, имеющего очевидную символистскую окраску. Ср., например, не публиковавшееся ранее стихотворение «Ты и я», вложенное в письмо Набокова матери из Кембриджа весной 1921 года (хранится в Berg Collection), которое любопытно еще и наглядным сочетанием абстрактной символизации, характерной для эпохи «Грозди» и «Горнего пути» (в письме Набоков поясняет: «Все это — символы»), со свойственной его зрелой поэзии тенденцией к перечислению конкретных, главным образом визуальных, впечатлений внешнего мира:
В юности чудом мы встретились; о́-поле путь наш пролег.
(Рдяная кашка медвяная, синий сухой василек.)
Мчалась ты, жадная, вольная; снились мне дольние сны.
(Песня ветрила веселого, скрип оснеженной сосны.)
Ты возносилась стремительно; ввысь я глядел из окна.
(Солнце над горными розами, в черном колодце — луна.)
Ты улетела, стоцветная; плачу, но отклика нет…
(Птица с безумными крыльями, слабенький зябкий поэт.)
Или сочетание символистского мотива «зова» с модерновым образом телефона в стихотворении «Телефон» (в письме матери из Кембриджа от 24 апреля 1921 года (Berg Collection))
Один, впотьмах, за крепкими стенами,
я звал тебя, хоть были между нами
И города́, и рек живые сны,
за степью степь, за лесом лес туманный.
— Надолго ль мы с тобой разлучены? —
Я вопрошал, тоскуя несказанно.
— Да, — глухо ты ответствовала, — да,
навеки, мой возлюбленный, навеки. —
Тебя услышал я: леса и реки,
горящие на солнце города
и полевые веерные дали —
всё, всё твой плач летучий превозмог, —
и между нами вдоль прямых дорог,
чудовищные ландыши рыдали…{34}
С другой стороны, Набоков «смолоду был молод»: в письмах к родителям он описывает не только прогулки с музой («Занят я по горло, но это не помешает мне по субботам to walk out with my girl, т. е. с музой»), но и свою «полумонашескую, полуалашескую» жизнь — развлечения в обществе двух других русских cantabrigiens Михаила Калашникова и Никиты Романова: «…мы имели втроем самые смелые приключения, и не одному проктору знакомы наши лица. Счетов у меня порядочно, — и как-то в одну буйную ночь мы сломали два хозяйских стула и облепили противоположную стену кремом ядовитых пирожных».{35} В Кембридже Набоков играл в теннис, футбол (голкипером), катался по речке Кэм с той или другой Виолетой (см. «Университетскую поэму», 1927), опубликовал два своих первых стихотворения на английском («Home», «Remembrance»).
Во время учебы в Кембридже произошли два события в жизни Набокова, непосредственно отразившиеся в его стихах. Летом 1921 года он познакомился и через год был помолвлен с семнадцатилетней Светланой Зиверт, двоюродной сестрой Михаила Калашникова. Посвященные ей стихи приходилось пояснять: «Это очень „глубокое“ стихотворение, Светик!»:
Все — только смутное, цветное дуновенье, —
кружись; и для тебя, влюбленной на мгновенье
в свой упоительный полет,
да будет музыкой мерцанье ночи пышной,
и шелесты земли, и все что сердцу слышно,
и все что в памяти поет…
Внимая небесам восторженно-лучистым,
прочувствуй, как и я, что в вихре серебристом
зеленоглазый, смуглый мир
кружится, как и ты, безумно и блаженно,
кружится без конца в лазури вдохновенной
под звон воздушный звездных лир.
(Berg Collection)
28 марта 1922 года отец поэта, Владимир Дмитриевич Набоков, был убит террористами-монархистами, покушавшимися в зале берлинской филармонии на П. Н. Милюкова (см.: Бойд. Русские годы. С. 225–229). Набоков записал в дневнике: «Я читал вслух нежные стихи об Италии, о влажной, звонкой Венеции, о Флоренции, подобной дымному ирису. „Как это прекрасно, — сказала Мама, — да, да, именно: дымный ирис“. И тут зазвонил в передней телефон» (цит. по: Бойд. Русские годы. С. 227). Рассказ в «Speak, Memory» об этом событии здесь обрывается, а в дневниковой записи есть продолжение, которое в автобиографии могло бы показаться нарочитым вымыслом: «Я почему-то вспомнил, как днем, провожая Светлану, я начертал пальцем на затуманенном стекле вагонного окошка слово „счастье“, — и как буква каждая вытянулась книзу светлой чертой, влажной извилиной. Да, расплылось мое счастье». В начале лета 1922 года он сдал выпускные экзамены в Кембридже на степень бакалавра (матери он писал: «Ты знаешь, как трудно, как грустно весной… И особенно в эту весну. Мне подчас так тяжело, что чуть не схожу с ума — а нужно скрывать» (Письмо от 27 мая 1922 года. Berg Collection)) и вернулся в Берлин.
Наиболее значительным поэтическим влиянием кембриджского периода была для Набокова георгианская поэзия, которая, по выражению Дональда Бартона Джонсона, сейчас «отзывается тусклой нотой „сентиментальной пасторальности“ или „воскресных поездок на природу“ — если вообще имеет какой-нибудь резонанс».{36} Характерно, что «поэтический старовер» Сирин выбрал из современных английских поэтов именно «академистов», консерваторов-георгианцев, сочетавших викторианский поэтический традиционализм с отсутствием религиозно-философской проблематики Теннисона и Браунинга, сложности и аллюзивности Элиота и Паунда. В письме к Эдмунду Уилсону 1942 года Набоков признается, что стихи его сборника «Горний путь» (1923) «были написаны под сильным влиянием георгианских поэтов, Руперта Брука, де ла Мара и прочих, которыми я тогда был очень увлечен».{37} Д. Б. Джонсон проблематизирует это заявление: стихотворения, написанные в Кембридже, ни своей тематикой, ни поэтикой не отличаются от стихов предшествовавшего им крымского периода (заметные изменения в поэзии Набокова начинаются только с начала 1930-х годов) — зато Джонсон обнаружил ряд аллюзий к Бруку и де ла Мару в прозе Набокова, от «The Real Life of Sebastian Knight» («Истинная жизнь Себастьяна Найта», 1941) до «Look at the Harlequins!» («Смотри на арлекинов!», 1974).