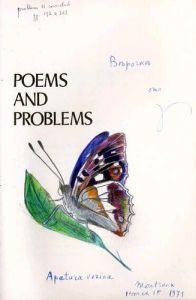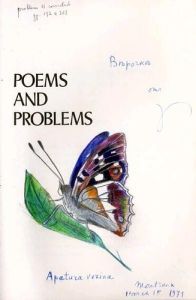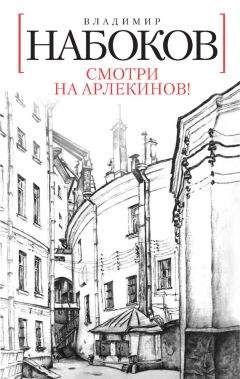Взаимообогащение стиха и прозы, обещанное поэтическими переложениями и прозаическими парафразами Р. Брука, Л. Кэрролла, Р. Роллана и характерное для зрелой поэтики Набокова, в первых эмигрантских стихотворных сборниках — «Гроздь» (1922) и «Горний путь» (1923) — не реализовалось. Еще учась в Кембридже, Набоков публиковал стихотворения в берлинской газете «Руль»:
«Задолго до того, как в его <И. В. Гессена> издательстве <„Слово“> стали выходить мои книги, он с отеческим попустительством мне давал питать „Руль“ незрелыми стихами. Синева берлинских сумерек, шатер углового каштана, легкое головокружение, бедность, влюбленность, мандариновый оттенок преждевременной световой рекламы и животная тоска по еще свежей России — все это в ямбическом виде волоклось в редакторский кабинет, где И. В. <…> смотрел на меня с полусаркастическим доброхотством, слегка потряхивая листом, но говорил только „Н-да“ — и не торопясь приобщал его к материалу».{45}
Стихи из «Руля» отметил в дружеском отклике Николай Яковлев, написавший о творчестве «молодого поэта большой, почти на глазах крепнущей лирической силы, поэта с художественным самоограничением и мерой» (Новая русская книга. 1922. № 1. С. 21). Большая часть этих стихотворений вошла в сборники «Гроздь» и «Горний путь» («Горний путь» вышел на месяц позже «Грозди», в январе 1923 года, но составлен из более ранних стихов, написанных с начала 1918-го до июня 1921-го года, «Гроздь» — в основном с июля 1921-го по апрель 1922 года). С 1921-го года Набоков стал пользоваться псевдонимом Сирин (первый раз в рождественском номере «Руля» (7 января 1921 года), где были напечатаны три стихотворения и рассказ «Нежить», подписанные «Влад. Сирин»), выбранным отчасти потому, что «в „Руле“ было слишком много Набоковых» (его отец регулярно печатал в газете статьи на политические и литературные темы за подписью «В. Набоков»).{46}
По сравнению с двумя юношескими стихотворными сборниками, оба эмигрантских демонстрируют расширение круга тем: если в сборнике 1916 года и «Двух путях» стихи были все про любовь и природу, то тематика «Грозди» и «Горнего пути» отражает новый опыт (потерь, ностальгии, путешествий, влюбленностей) и новые литературные влияния. Характеризуя ретроспективно свою эмигрантскую поэзию, Набоков отметил, что в сопоставлении с юношеским периодом «кое-что <…> выправилось, лужицы несколько подсохли, послышались в голых рощах сравнительно чистые голоса» (Стихи и комментарии. С. 80). В стихах этого периода впервые ясно формулируется несколько старомодная романтическая позиция Набокова «я — поэт»: «Горний путь» он начинается с art poétique «Поэту»; в архиве Набокова сохранилось другое, неопубликованное, стихотворение 1920 года, написанное как обращение поэта к своей музе «языком Пушкина»:
Музе
<…> о, муза, грустно мне!
Гул пушкинской струны, осмысленно-великий,
не вызвал отзвука достойного, и вот
плоды словесного бесстыдства: бред заики,
ночная балмочь, блуд, лубочный хоровод,
да странного ума лукавая забава…
Нет, — пламя тайное включая в стих скупой,
сознательно твори, упорствуй, но не пой,
когда душа молчит. Будь в малом величава:
всё благо на земле, всё — пыль, всё — Божество…
О да, ты сыздетства постигла волшебство
земного! Ты огня живее и румяней:
смеешься и грустишь; глаза твои горят,
и вновь туманятся; — но, иногда, я рад,
что холод есть в тебе высоких изваяний, —
богинь, блистательно застывших на лету…
Не медли в небесах, о муза! Вот вплету
листок березовый — душистый, ощутимый —
в твой облачный венок: да будешь ты всегда
проста, отзывчива… Век темен — не беда!
Пусть гости-горести вошли, неотвратимы,
в обитель юности пирующей моей, —
их безобычливых не слушаю речей…
Пусть, омраченное, ослепшее на время,
мое великое, таинственное племя
бушует и в бреду безумное творит —
о вечно-вешняя! — по-прежнему горит
твой неотлучный луч; я знаю, что чудесно
печаль ты выразишь (певучая печаль
для чутких сладостней отрады бессловесной).
Я знаю — звездную, внимающую даль
столетий ты пройдешь, воздушная, а ныне,
подруга, жизнь моя, — в долине, на вершине, —
везде-везде хочу я чувствовать тебя.
Дай мне духовный жар, дай мне резец холодный;
Восстань! Пора, пора! Свершай свой путь свободный,
благославляя всё, о муза, всё любя…{47}
Отзывы критиков на «Горний путь» и «Гроздь» были немногочисленными и в основном равнодушными — все отметили вторичность и подражательность «поэта — первого ученика»,{48} в благожелательной формулировке Юлия Айхенвальда — отмеченного «печатью культурности».{49} Переимчивость Набокова 1920-х годов не распространяется дальше символизма: в его стихах находили влияния Пушкина, Фета, Тютчева, Бенедиктова, Бунина, Блока. Лоран Рабате справедливо отмечает демонстративность набоковских заимствований{50} — не случайно Набоков посвящает несколько стихотворений своим поэтическим менторам, прямо повторяя их тематические и ритмические топосы («На смерть Блока», «И. А. Бунину», «Пушкин — радуга по всей земле…»). Интересно, что ни в первые эмигрантские, ни в последующие сборники Набоков не включил ряд длинных стихотворений о Петербурге — «Петербург» («Так вот он, прежний чародей…», 1921), «Петербург» («Он на трясине был построен…», 1922) и «Петербург» («Мне чудится в Рождественское утро…», 1923), — в этих стихотворениях, из которых можно составить цикл, «петербургский текст» подчеркнуто ограничен аллюзиями к Пушкину и Блоку.
Между сборниками 1923 года и следующим — «Возвращение Чорба. Рассказы и стихи» (Берлин: Слово, 1930), в который вошли стихи 1924–1928 годов, малозаметный поэт Владимир Сирин превратился в одного из первых молодых прозаиков русской эмиграции: кроме ряда рассказов, большая часть которых вошла в сборник «Возвращение Чорба», им уже были опубликованы романы «Машенька» (1926) и «Король, дама, валет» (1928).
Восьмого мая 1923 года в Берлине на благотворительном балу Набоков встретил молодую женщину в волчьей маске, Веру Евсеевну Слоним. Через несколько дней он уехал сезонным рабочим на юг Франции, в имение друга своего отца Соломона Крыма, и там написал стихотворение «Встреча» с эпиграфом из «Незнакомки» Блока:
<…> Надолго ли? Навек?.. Далече
брожу — и вслушиваюсь я
в движенье звезд над нашей встречей…
И если ты — судьба моя…
Многочисленные письма Набокова Вере, в 1925 году ставшей его женой, — это разговор с alter ego: «Я люблю в тебе эту твою чудесную понятливость: словно у тебя в душе есть заранее уготовленное место для каждой моей мысли» (Письмо от 3 декабря 1923 года. Berg Collection).
Несмотря на то что многие эмигрантские рецензии на первые романы Сирина били мимо цели — «Машеньку» восприняли как бытописание эмигрантской жизни, роман «Король, дама, валет» — как социальную критику и роман в духе немецкого экспрессионизма{51} — репутация Набокова уже была создана. Почти одновременно с «Возвращением Чорба» вышел отдельным изданием роман «Защита Лужина» (Берлин: Слово, 1930), публиковавшийся сначала в главном «толстом» журнале русского зарубежья «Современные записки» (1929–1930, № 40–42), который вывел Сирина из «критической полутени». На «Защиту Лужина» откликнулись наиболее влиятельные эмигрантские критики и литераторы — Г. Адамович, В. Вейдле и В. Ходасевич, причем первый, хотя роман ему не понравился, признал его «одной из замечательнейших русских беллетристических вещей за последние годы».{52} Критические отклики на «Защиту Лужина» содержали зерна практически всех направлений будущей эмигрантской сиринианы: упреки в бездушности и холодности сиринского мира, его нерусскости, зависимости от западных образцов, признание стилистического блеска, «благородной искусственности» и оригинальности.{53} Г. Адамович хотя и без симпатии, но точно нарисовал творческий путь, пройденный Сириным к 1930 году:
…Сирин дебютировал в литературе как поэт. В стихах его чувствовалось несомненное версификационное дарование, но иногда не было ни одного слова, которое запомнилось бы, ни одной строчки, которую хотелось бы повторить. Стихи были довольно затейливы, гладки, умны, однако водянисты. Первый роман Сирина, «Машенька», — мало замеченный у нас — мне лично показался прелестным и, как говорится, «многообещающим». Сразу стало ясно, что к прозе Сирин имеет значительно больше расположения, чем к стихам. Второй роман Сирина, «Король, дама, валет», был ловчее, но зато и холоднее «Машеньки» — и меньше в нем было внутренней правды. Теперь появилась «Защита Лужина». Вокруг этой вещи создался некоторый шум. Многие искушенные и опытные ценители ею искренно восхищаются. Должен признаться, что восхищение я не вполне разделяю. Роман рассудочен и довольно искусственен по стилю и замыслу. Он чуть-чуть «воняет литературой», как выражается Тургенев. Однако подлинный талант автора вне всяких сомнений.{54}