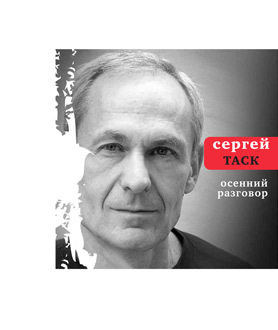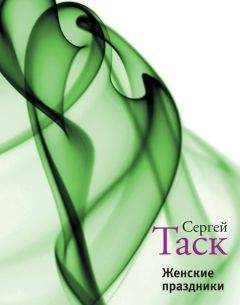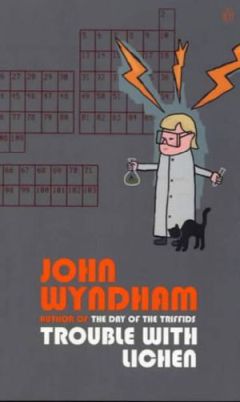Но, к счастью, мрак ночной вдруг, точно струп, отсох,
и выявилось все, от фауны до флоры,
и это был конец чистейшего мажора,
спугнувший всех ворон, откормленных дурех.
Покидая пункт А, неминуемо станешь пророком,
понимая уже, что пункт Б – твой единственный шанс,
и, наскуча почтовой каретою, тесной как кокон,
с облегченьем вздыхаешь, в поспешный садясь дилижанс.
За Тверскою заставой, ездой убаюкан, задремлешь
и, очнувшись, признаешь не тотчас же Черную Грязь,
и какая-то сила погонит наружу затем лишь,
чтоб взглянуть на гнедого, терзающего коновязь.
Кликнув конюха, скажешь, что надо ослабить уздечку,
подорожная выправлена, можно трогаться в путь.
Ну как прямо сейчас и махнуть мне на Черную речку?
Ведь исход предрешен, не четыре же года тянуть!
А с другой стороны, не судиться же с будущим веком,
ожидающим, чем я окончу восьмую главу…
И, рукою махнув, раскрываешь ты свой вадемекум,
с буквы ять, «Путешествие из Петербурга в Москву».
А в пути и в тюрьме всякой книге, как божьему дару,
надо радоваться, здесь тем более вам не пустяк:
вот и кукиш в кармане, стреляющий по государю,
или, скажем, прелестный пассаж о рекрутских страстях.
За окошком идиллия, куры сидят на насестах,
и бездумная мысль упреждает понятие штамп,
речь о вяземских пряниках и о московских невестах
иль о белом стихе, что заменит когда-нибудь ямб.
Ну а после хитро так нанижется слово на слово,
что одни, не умея зерно отделить от плевел,
заблажат – мол, опять этот вор посягнул на основы,
а другие присвистнут – смотрите, как он поправел!
Заварю эту кашу, пускай моя песенка спета,
нет, не червь, и не раб, и не царь я – но бог, демиург!
Когда с этого света на тот провожают поэта,
то дорога возможна одна – из Москвы в Петербург.
Я спал, и вдруг прерывистый звон.
Я трубку снял: «Алло?»
Трещало в трубке,
а по спине нездешний холодок,
и на бок повело,
ну точно в шлюпке.
А в трубке голос: «Это этот свет?
С тем светом наконец
есть связь прямая.
Фон устранить пока что средства нет.
В кабине ваш отец.
Соединяю».
«Алло… Сынок?..» И пот меня прошиб.
Знакомый, с хрипотцой
отцовский голос.
«Ну что сопишь? У вас там, верно, грипп?
И суета? И зной?
И ты все холост?
У нас тут до всего рукой подать.
Всё есть и, разумеется, бесплатно.
А как здесь мило, чисто и опрятно,
сам понимаешь, божья благодать…
Так вот, сынок, возьми меня обратно!»
И, преодолевая немоту,
я крикнул: «Как там мать? Скажи ей…»
В трубку
завыли так, как воют лишь в аду,
провернутые
через мясорубку.
«Алло! алло!» – я жал на рычаги
и дул в мембрану я
что было силы.
В ответ свистело, шаркали шаги,
и слово бранное
произносили.
Но вот, как среди буден – Рождество,
возник напев
полузабытой речи:
«У вас там голод? Ты хоть ешь чего?
Воюете? И нет консерв
и свечек?
У нас, как сам ты понимаешь, рай.
Здесь прямо на тебе выводят пятна,
здесь всё так весело и так занятно,
лежи хоть целый день и загорай…
Ну, словом, ты возьми меня обратно!»
Хочу ответить ей, а в горле ком,
и всё в глазах мелькает
и двоится.
Те, что ушли и колокол по ком
звонит, вдруг оживают:
лица… лица… лица…
«Что, так молчать и будем мы с тобой?» —
донесся голосок
телефонистки.
И тотчас что-то щелкнуло. Отбой.
Я слов найти так и не смог
для близких.
Я чуть не шваркнул об пол аппарат,
я близок был к параличу
с досады.
Ведь не поправить, не вернуть назад!
И вот я в пустоту кричу
с надсадом:
«Да-да, у нас хреново, видит бог.
То вдруг собачий холод, то ненастье.
Сегодня нету водки, завтра масла,
есть, правда, царь, но он здоровьем плох…
Короче, жизнь есть жизнь, она прекрасна!»
Куда отлетает душа палача?
На небо? Но как повстречаться без страха
с душою того, кто был послан на плаху,
кому разодрал ты на шее рубаху
и место засек, чтоб ударить сплеча?
Куда уползает душа палача?
Под землю? Но глупо в подвалах загробных,
где виселиц нету и мест нету лобных,
бродить средь теней, ей зловеще подобных,
такой унизительный жребий влача.
Куда исчезает душа палача?
Ну, скажем, ты серым прослыл кардиналом,
мышьяк рассылая по тайным каналам,
но вот уже сам отнесен ты к анналам,
горячий поклонник огня и меча.
Куда ускользает душа палача?
И есть ли в России такие метели,
чтоб дать ускользнуть ей они захотели?
А может, души-то и не было в теле?
А может быть, и не горела свеча?