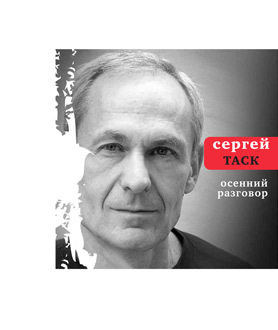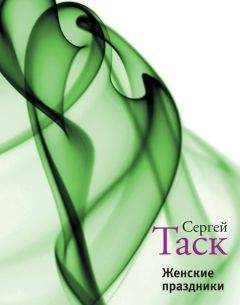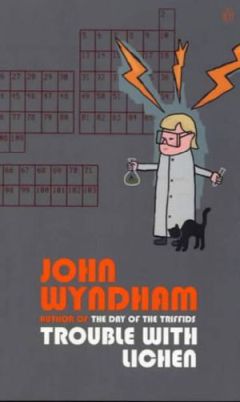Конечно, нельзя, но раз хочется – стало быть, можно.
Открыла с опаской. Он так же с опаской войдет.
Как странно увидеться здесь с ее младшей сестрой,
А тот, симпатичный, и вовсе ему незнакомый.
«Зачем же на краешек? Ты себя чувствуй как дома.
Гитара все там же в углу. Если хочешь – настрой».
Всё так и не так. У Амура сломалась стрела.
Где письменный стол, за которым немало писалось?
Сейчас в этот угол уютное кресло вписалось.
Похоже, грядут перемены. Такие дела.
«За синей рекой, моя радость…» – звучит за стеной.
«За красной горой…» – куда деться от этих мелодий?
А тот, симпатичный, который назвался Володей,
Как будто всерьез занялся его бывшей женой.
Ну что, мой стрелок незадачливый, мой побратим,
Не хочешь ли ты полетать над троллейбусным парком?
А мы вчетвером потолкуем при свете неярком,
И все недостатки в достоинства мы обратим.
Всё те же на кухне готовятся кислые шти,
И желтые шторы на окнах еще не сменили,
Но начат уже перевод километров на мили,
На странные мили, которые надо пройти.
Взгляни: Египт у ног твоих
простерся, фараон!
Рабы молчат, и ветер стих —
неколебим твой трон.
Ты властен, сказочно богат,
видать, судьба хранит,
да и Озирис, говорят,
к тебе благоволит.
Что ж нынче мрачен? Отчего
в глазах твоих тоска?
Отняли сына твоего —
утрата велика.
Но не о ней скорбишь, о нет!
Ты уязвлен больней:
сломал величия хребет
презренный Моисей.
Ты – бог, ты – идол, словно чернь,
простерт, повержен в прах,
и гложет мозг сомнений червь,
и жжет впервые – страх.
Ты их анафеме предашь,
карать же будет Тит.
Стать вольными пришла им блажь,
что ж, время отомстит:
изгоям будет тяжело,
потомкам их – вдвойне…
И вдруг разгладилось чело —
он улыбался мне.
Есть много истин на земле:
сомнительных, бесспорных,
о боге, о добре и зле,
немало априорных.
Но есть одна – ее, как гвоздь,
вгони по шляпку в память:
храни своей земли ты горсть,
чем о чужой горланить.
Земель обетованных нет,
утопий, Атлантиды,
рай подпирают тыщи лет
рабы-кариатиды.
Итак – исход. С него отсчет
страданья, унижений.
Побед с тех пор – наперечет,
а сколько поражений!
«Что ж, перешли вы Рубикон,
сожгли мосты напрасно…»
В тот час отмщен был фараон.
В тот час звезда погасла.
Кормиться лесом не зазорно,
когда тебе он отчий дом,
не стыдно брать у поля зерна,
когда свой горб ты гнул на нем.
Рука дающего, конечно,
не оскудеет никогда.
А все ж, святой ты или грешный?
Дождемся высшего суда.
В домишке окнами на Терек
жил, помню, странный человек:
жену отвез на левый берег,
а сам на правом мыкал век.
Хотя он, кажется, за дело
сослал красавицу жену,
но сердце третий год болело,
и, чувствуя свою вину,
положит палку он, бывало,
и прыгает через нее.
Других молитв тогда не знало
неграмотное мужичье.
И вот за этим-то занятьем
епископ наш застал его.
«На что, – корит нас, – время тратим?
Из палки сделать божество!
Язычество ли, чернокнижье,
приступим, не жалея сил».
Епископ подошел поближе
и, посуровев, приступил:
«Безбожник, ты бывал неправым?»
«Бывал», – безбожник отвечал.
«А деньги брал за переправу?»
И лодочник ответил: «Брал».
«Я не могу, ты видишь, Боже,
не наложить епитимью.
Брать деньги с ближнего негоже,
придется лодку взять твою».
И в лодку сел он вместе с нами
и напоследок так сказал:
«Молись, мой сын, тремя перстами,
вот так». Епископ показал.
Едва отплыли, вдруг: Смотрите!
Там, за кормой… Да что там? Где?
«Забыл! Еще раз покажите!»
Он… он бежал к нам… по воде…
И тут епископ прослезился,
и молвил он, махнув рукой:
«Молись и дальше как молился.
Ты вскормлен мудрою