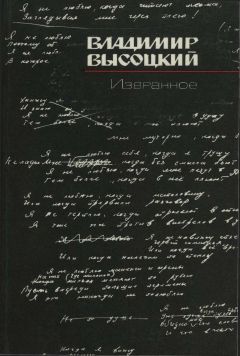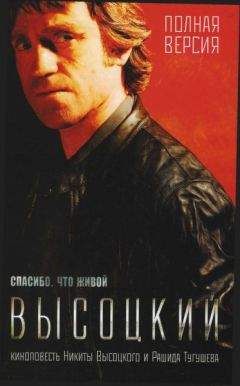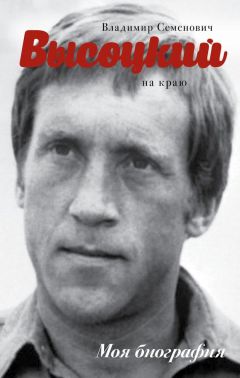Если верно, что время узнается по тому, над чем люди смеялись, — это был смех определенного времени, которому мы живые свидетели. Но. видимо, время это еще не прошло, потому что «Бермудский треугольник», «Слухи», «Лекция о международном положении», «Письмо с сельхозвыставки», «Таможня» и множество других поэтических текстов таят в себе запас юмора, который еще далеко не исчерпан.
Высоцкий не часто высмеивает, хотя и смеется, и вообще без юмора никогда не обходится. Он не издевается, не бичует и даже не осуждает. Хотя и судит. Судит о жизни и о людях, которых видит насквозь в их прошлом и настоящем, в их подвигах и грехах, в несоответствии мнения человека о себе и его реальной значимости.
Забавность облика, личины — это юмор первого, поверхностного плана. А так как второй план юмора есть не что иное, как второй смысл, — нередко куда более общий, расширительный, всегда требующий напряжения ума и не поддающийся одной-единственной разгадке, — возникали и будут возникать сложности с трактовками стихов. Дело в том, что эти стихи многозначны. В них есть и второй, а нередко и третий смысл. Расхожим является термин: «шуточные песни Высоцкого». Действительно, скажем, шутка в рассказе о Жирафе, который влюбился в Антилопу, наглядна для всех, даже для самых маленьких. Но когда Гоголь утверждал, что басни Крылова «отнюдь не удел детей», он, не отрицая понятного детям смысла басенных сюжетов, звал оценить маленькие притчи еще и как собрание парадоксов бытия, книгу мудрости, отмеченную особым даром автора — выражаться «доступно всем». Простота, доступность, очевидность — это лучший способ первоначального познания. На этой ступени можно и остановиться. А можно пойти дальше. И каждый сделает это в соответствии с собственными фантазией, опытом и, разумеется, чувством юмора.
Кстати, предваряя исполнение именно песни про Жирафа, автор сказал, что в каждой шуточной песне должен быть какой-то «второй слой», а иначе у него не потянется рука к перу. Этот второй слой (непременное условие народной поговорки) существует в простейшей строке, тут же ушедшей из стиха в нашу обиходную речь: «Жираф большой — ему видней!»
Как известно, смех — это сигнал человеческого сближения. Смеются равные. Смех уравнивает людей, он восстает против всяческих разделяющих перегородок, чинов и различий. В стихах Высоцкого эта роль смеха имеет явно выраженный общественный характер. В его смехе — призыв, вера и, что очень важно, ощущение идеала, иногда смутное у его персонажей, но постоянное и отчетливое у автора.
Иногда он «полушуткой» называл нечто очень серьезное и сложное. Например, назвал так песню «В сон мне — желтые огни…», одну из самых трагических. Но трагическое состояние души, которой «всё не так», и страшный в своей выразительности перечень полярных явлений, сближенных тем, что и там и тут «ничто не свято», — сам этот перечень закамуфлирован такой нарочито расхожей цыганщиной, что уже одно это почти смешно. Любители песенных стилизаций блаженно улыбаются лихому переплясу строф, строк, мелодии, между тем слова и строфы соединяются в причудливый, но достаточно строгий порядок, минуют житейскую логику, притом чувство выражают несомненно трагическое. В данном случае песенная природа стиха дает некий исход тому, что в общем-то безысходно, трагично.
Поэзия Высоцкого не разводит в разные стороны смех и драматизм бытия. И это соответствует не только великой литературной (шекспировской, пушкинской) традиции, но народному мироощущению. Оттого в цикле стихов к фильму «Иван-да-Марья» столь естественно соседствует скоморошья блистательно-щедрая «Ярмарка» с лаконизмом печальной и вечной «Беды».
Поэт сближает и воедино сплавляет полярные стороны бытия. От скоморошьей вольницы он свободно переходит к интонациям возвышенным, романтическим и так же свободно опускается вниз, на землю, помня, что «поэзия всегда останется той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валяется в траве, под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли…» Это мудрые слова Пастернака, лю-бимейшего (после Пушкина) поэта Высоцкого.
Смех различен, как отпечатки пальцев. Смех Высоцкого имеет характер защиты — человек защищает все живое. Он защищает жизнь — как природу в себе и вокруг, как нормальную среду обитания. Путем смеха он обнаруживает в этой среде все неестественное, искаженное, извращенное. Он в самом себе не боится увидеть искажение идеала и посмеяться над этим.
Набравшись дерзости у народного юмора, то есть у народного склада ума, Высоцкий ввел юмор туда, где ему, вроде бы, мало места, — в тему войны. Он не первый это сделал, но не случайно так долго не могли пробиться к публикации песни Высоцкого «Тот, который не стрелял», «Жил я с матерью и батей…». Кому-то чуть ли не кощунственной казалась интонация этих стихов. Между тем поэт лишь продолжил свое исследование состояния человека на войне, зная, что тема требует полноты объема, а запретных ракурсов в стремлении к правде нет и быть не может.
Он ввел юмор и в ту тему, которая в его время вообще не поднималась,» а у него открыто прозвучала и в «Баньке по-белому», и в «Райских яблоках». Жутковатый там юмор, но, однако, несомненный. «А на левой груди — профиль Сталина, а на правой — Маринка анфас». И это — не будем ханжами — смешно. Как говорит народ, что грешно, то смешно. В самые страшные стихи о побеге из мест заключения тоже введен юмор — как страшноватый оскал, как стальной блеск той улыбки бывшего зека, о которой Твардовский писал в поэме «За далью — даль».
Шуткой — вольной, яростной — в народе издавна принято подавлять страх, побеждать его. В эпоху множественных страхов Высоцкий извлекал из себя и из своей огромной, массовой аудитории эту великую способность — смеяться над тем, что страшно.
Подтрунивание над собой — традиционная интонация русских солдатских песен. (В чистом виде она воспроизведена в одной из песен к «Иван-да-Марье».) В этом смысле Высоцкий — поэт глубоко традиционный.
И язык, и смех Высоцкого не являются, строго говоря, фольклорными.
Это искусство поэта-профессионала. Но, вступая в стихию вольной беседы (такова наиболее употребимая им поэтическая форма), откровенного скоморошества и балагурства, он чувствовал себя абсолютно естественно, будто в этой стихии и родился. Неизвестно, сколько книг о фольклоре было им прочитано. Но любой специалист, прислушавшись к гулу его поэтической ярмарки, уловит там многие речевые жанры площади — голоса зазывал-шар-латанов, прибаутки балаганных «дедов», юмористические проклятия, обращенные к публике и к себе. Словом, тот культ смеха, который уходит в глубь народной жизни и сохраняется там веками.
Две стихии народного мышления — плачевая (женская) и смеховая (мужская) органично соседствуют, то сливаясь, то разъединяясь, как реки, в его творчестве. Одна — это Марьюшка, это та, где «над похоронкой заходятся бабы в тылу», где жена нужна, «чтобы пала на гроб». Другая — та, где автор представляет и хор, и солиста, где царит мужское многоголосие.
Позволю себе сказать, что перед нами — редкий пример фольклорного сознания у современного поэта. В этом разгадка ничем не укрощенной «вольности суждений площади» и простонародной речи, без спроса вступившей в песенную поэзию, а теперь подлежащей рассмотрению как элемент уже общенародной культуры. Настроение, интонация, обороты мысли — тут все от народного ума, который, как говорил Гоголь, «строго взвешенным и крепким словом так разом… и определит дело, так и означит, в чем его истинное существо».
Слово Высоцкого открыто, распахнуто к людям, не зашифровано. Оно лишено интеллектуальной усложненности. Но в нем природное изящество и своя стать. Поэт охотно и часто играет словами, рифмами (в исполнении — мелодическими ритмами). Эта игра тоже более всего продиктована веселой свободой общения — и со словом, и с аудиторией. Поэзия Высоцкого прямодушна. С простотой, которая в быту лишь ребенку прощается, поэт говорил то, что думал сам и что думали (но не говорили, молчали) многие. Но эта простота, эта как бы немудреная природа содержит в себе свои загадки. Думаю, что внимательный читатель разглядит их именно в печатном виде стиха.
Слово Высоцкого успокаивается на бумаге, в книге. Оно дает себя рассмотреть в разных связях — со звуком, со смыслом, с другими словами-соседями. Наверняка кому-то будет мешать память о голосе актера — этот голос неизбежно озвучивает многие тексты. Песни Высоцкого у всех на слуху, это так. И стихи, лишенные богатства актерских интонаций, вполне вероятно, кого-то разочаруют. Но у меня после долгого общения с рукописями поэта возникло, следует признаться, и новое качество восприятия. Возможно, оно появится и у заинтересованного читателя книги.
То, что в живом авторском исполнении выплескивалось как подчиняющий слушателей единый эмоциональный порыв, при чтении нередко открывает свое достаточно сложное строение, как бы раскладывается на множество эмоциональных движений, объединенных движением к главной цели, которая, в свою очередь, вовсе не предстает столь уж простой и сразу доступной. Будь то «Кони привередливые», «Баллада о брошенном корабле», «Штормит весь вечер…» или тем более «Гербарий» — это достаточно сложная стилистика, не поддающаяся мгновенному разгадыванию. Тут читателя следует призвать к медленному чтению, к неторопливости.