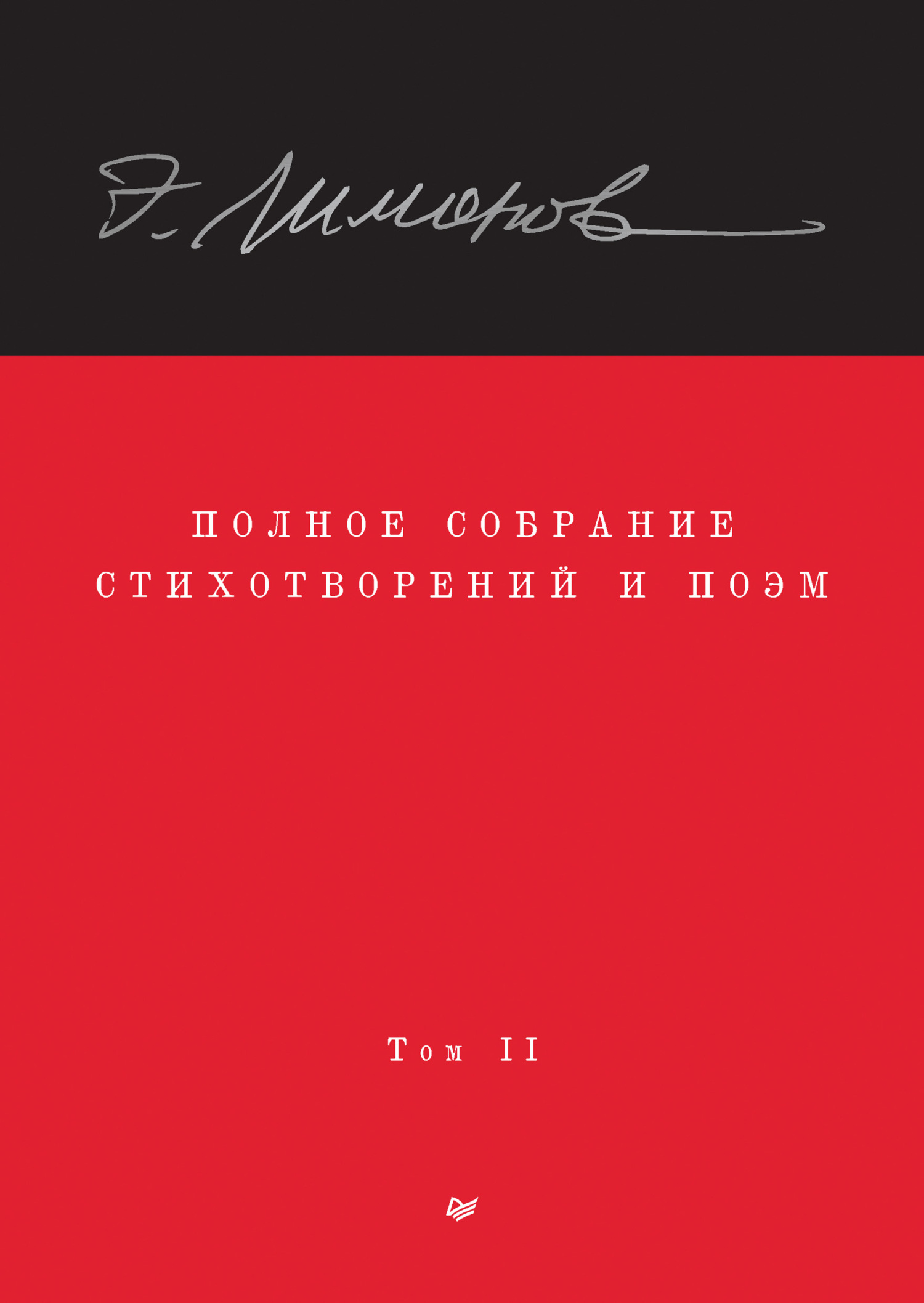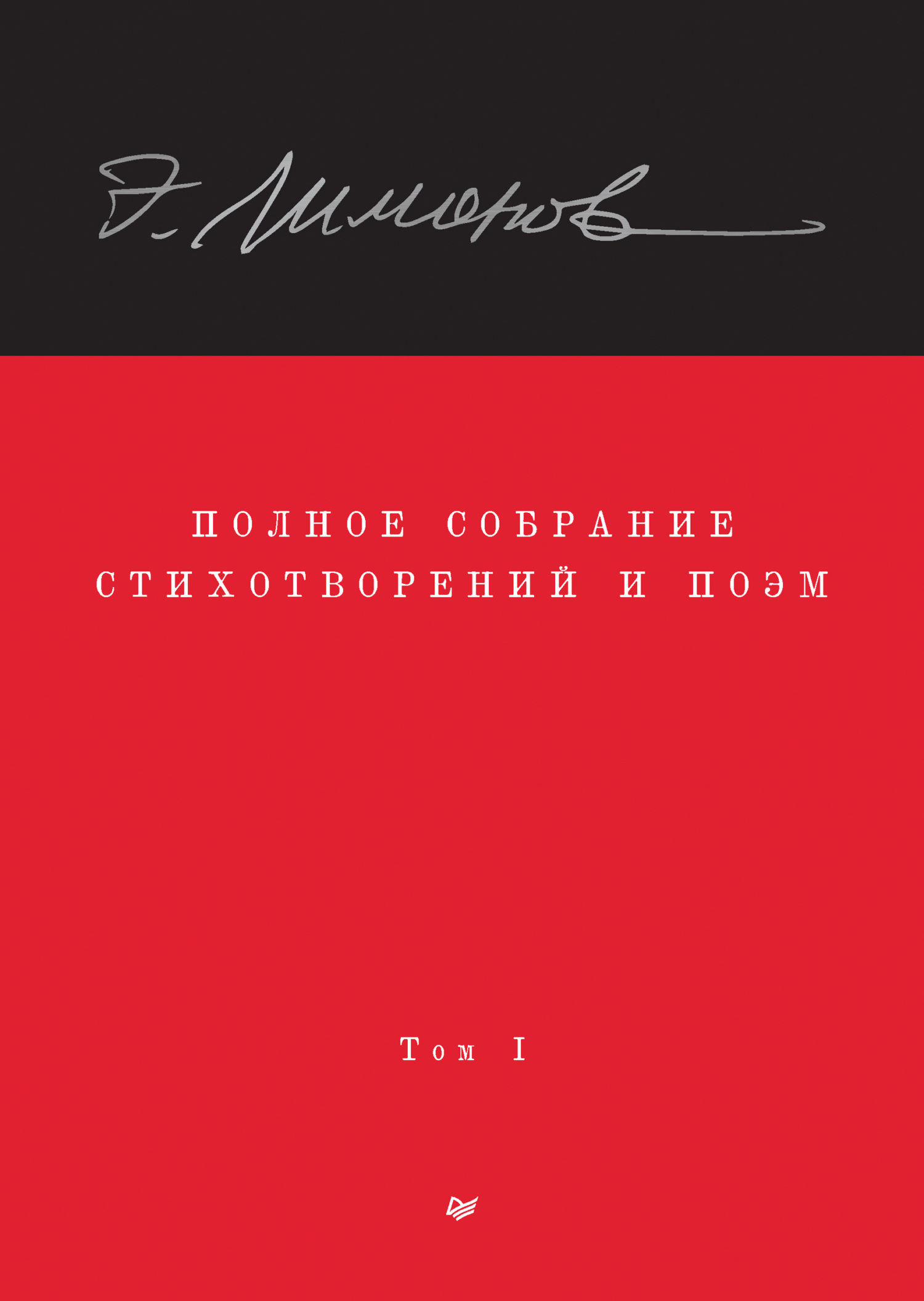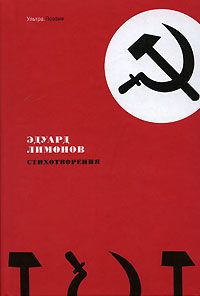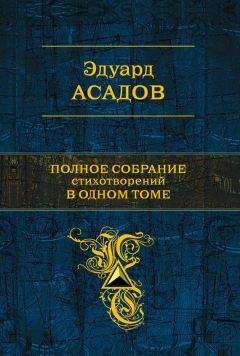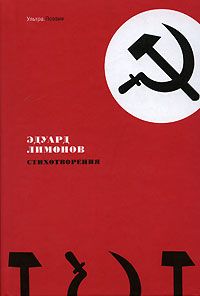Эдуард Вениаминович Лимонов известен как прозаик, социальный философ, политик. Но начинал Лимонов как поэт. Именно так он представлял себя в самом знаменитом своём романе «Это я, Эдичка»: «Я — русский поэт».
О поэзии Лимонова оставили самые высокие отзывы такие специалисты, как Александр Жолковский и Иосиф Бродский. Поэтический голос Лимонова уникален, а вклад в историю национальной и мировой словесности ещё будет осмысливаться.
Вернувшийся к сочинению стихов в последние два десятилетия своей жизни, Лимонов оставил огромное поэтическое наследие. До сих пор даже не предпринимались попытки собрать и классифицировать его. Помимо прижизненных книг здесь собраны неподцензурные самиздатовские сборники, стихотворения из отдельных рукописей и машинописей, прочие плоды архивных разысканий, начатых ещё при жизни Лимонова и законченных только сейчас.
Более двухсот образцов малой и крупной поэтической формы будет опубликовано в составе данного собрания впервые.
Читателю предстоит уникальная возможность уже после ухода автора ознакомиться с неизвестными сочинениями безусловного классика.
Собрание сопровождено полновесными культурологическими комментариями.
Публикуется с сохранением авторской орфографии и пунктуации.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
самой структуры — плетёнки ткани и ещё угольничек выдранный подшит чёрными нитками. Рукав принадлежал женщине, девушке, худой и бедной.
Я ехал, у меня было больничное состояние моей психики и, кроме того, я приехал уж три дня в родной город, где провёл множество лет жизни и детства, и юность, и уже некоторые зрелые годы. Это также усугубляло мои дела. Но не умел я образовать слов для той любви, которую я имел, и которой теперь нет.
«Надевая шляпу или туфли…»
Надевая шляпу или туфли,
вспоминаю прежние года
Вкруг меня ложатся полутени
начинает говорить вода.
В зеркало вы видите мужчину
с тонким отвратительным лицом.
«Я помню дни прекрасные природы…»
Я помню дни прекрасные природы
Расчесанные бледные виски
и вишни выдающиеся своды
над молодым полотнищем реки.
Нас группа всех была и мы гуляли
но только локти нас двоих дрожали…
С холма были видны леса обрезанные
и там ходили огоньки нам неизвестные.
«Зимним сном и страшным, юным…»
Зимним сном и страшным, юным
запорошены мои сердца
У деревьев дальних на руках
лёг лежит загадочнейший месяц.
Близь и даль имеют один цвет
От следов людей чернеют ямы
По тяжёлой лестнице в Москву
не взойти сегодня, как бывало.
И мундира я не заслужил
Только понял я, что у провинций
на их старой синей их коре
снег и лёд покоятся с тревогой.
Вот войдёшь ты в неизменный дом
с неумелым старым же ковром
и тебя там жирный ждёт обед
Как всегда висит там твой портрет
Это дело нудное — сидеть
за послеобеденным столом
И в окно тягчайше глядеть
Всё растаявшее сверху взялось льдом.
Всё растаявши тихонько трещит
Сколько грусти в этих поколеньях
В первом, в третьем, что ещё лежит
ползает ужасно на коленях.
Мне бы старый гвоздь достать
Процарапаю тогда на стенке
Ничего я не хочу видать
Этой степи, дома, переменки.
Вот были ласковые дни
метра́ воды тогда шумели
и пожилой старик студент
сидел на пахнущей постели.
Его залосненных одёж
густое солнце освещало
он гладил взглядом на столе
где в склянке верба процветала.
По грязной молодой Москве
катались странные трамваи
Шумел огромный белый свод
ворон и галок сообщая
Он помнил эту тесноту
пальто всех старых вместе взятых
и по щеке тогда гулять
стремилось солнце золотое.
Подвалом нежным занесён
в какие-то большие двери
снимал свои калоши он —
на нём ботинки небольшие.
Весенний волос был прохладным
и от жары запотевал
когда немножечко нарядным
пред ней в поклоне он стоял…
Какое море детских жалких
воспоминаниев без сил
Они при смерти не помогут
Лишь ужас ей усугубят…
«Была картонка, в ней хранилися всегда…»
Была картонка, в ней хранилися всегда
разнообразные её красивые перчатки
Оторвана одна доска у той картонки в вечер гадкий
вернее, в сумерки — кувшина тяжелей,
всё лились из ужасной кружки.
Прийти поплакаться об ней
явились всякие подружки.
«И вот индусы раскачали…»
И вот индусы раскачали
и длинное и страшное бревно
и белой пылью лёг на жаркие сандалии
твой воздух — крайний юг — его твоё вино…
мне было десять лет
когда колени тихих граций
уже меня качали как своё дитя
и в нише у прохладных дней —
египетские танцы
большого паука.
Китайский воздух тёк
рекою мёда с пудрой
и над рекой тогда
склонялся женщин белый рой
их ноги жёлтые безумная природа — терзать постой.
В том уюте шерстяном
где касались одеялов
ноги мокрые детей
Там толкаются и днём
напирая, разрывая
крупы ярых матерей…
«Пятница липкая утром крупа…»
Пятница липкая утром крупа
манны заварена до потолка
варенье уронено в жёлтую массу
лиловая пятница смородина чёрная
С милыми застёжками
на давно существующем платьице
чёрном и тихом посередине ковров
Старое обиталище
жизни еврейской длительной
сбережённых сукон зелёных
шелестящих часов
и розовых носов.
«Эх, не трудися ты, пахарь еврейский…»
Эх, не трудися ты, пахарь еврейский
на ниве дел часовых,
Прижимая весь день себя к зрению
Дома у тебя дивная дочь
Приближающаяся к таинственному растению.
«Как снега Миронову поднадоели…»
Как снега Миронову поднадоели
не рабочему и не служителю
тающий их вид и серый словно
в печку проникающий рассвет
Уж снега Миронов продырявил
тонкими немощными ногами
В выросшем забитом всём костюме
и в кармане хлеба был кусок
У Миронова пустые плечи
клок волос берётся из-под шляпы
Залоснившись в жизни этой очень
он пошёл к старинным берегам
неправдоподобные растенья
привлекают зренье кто плетётся
кто улёгся ночевать на землю
то немного овевает ночь…
Извиваясь сонной на кровати
там сзади́ любовница осталась
и лежит — жена