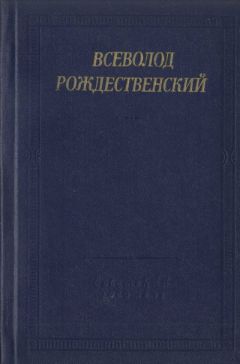Альфред Мюссе
436. ЧИТАТЕЛЮ ДВУХ ТОМИКОВ МОИХ СТИХОВ
Вся юность — на этих страницах
Нечаянной книги моей!
И надо — готов согласиться —
Поправить бы многое в ней…
Но могут ли не измениться
И годы и чувства людей?
По прихоти вольной своей
Лети, перелетная птица!
Кто б ни был, читатель мой, ты,
Что можешь, возьми от мечты.
Прости, коль неловко мне пелось.
Том первый — ребенок живой,
И юноша — томик второй,
Но в нем лишь намеки на зрелость…
<1952>
Нам надо многое среди презренной прозы
Любить, чтоб ясною казалась суть вещей:
Конфеты, океан, азарт, лазурь лучей,
Красавиц, бег коней, и гордый лавр, и розы.
И надо мять цветы, росы стряхая слезы,
Рыдать порой самим и провожать друзей.
Ведь чем душа у нас становится старей,
Тем нам милее то, в чем нет румян и позы.
Из быстротечных благ, мелькающих вокруг,
Одно останется всегда — старинный друг.
Мы можем разойтись, — но если случай снова
Сведет нас — мы, смеясь, друг другу руки жмем
И вспоминаем то, что было в нас живого, —
И смерти нет в душе, и снова мы живем.
<1952>
Как я люблю манерность вашей позы
И ваш овальный выцветший портрет,
Красавицы, роняющие розы,
Которым больше девяноста лет!
Румянец января, шафран загара
Вас не коснутся больше никогда.
Запылены, в витрине антиквара
Вы пролежите долгие года.
Минуло время красоты и граций,
Маркизы Дюбарри и Помпадур.
Ваш прах в тени кладбищенских акаций
Оплакивает мраморный амур.
И на портретах, счастливы ошибкой,
Роняя безуханные цветы,
Зовете вы пленительной улыбкой
Своих былых любовников мечты.
<1923>
Цветок Голландии, я огненный тюльпан,
И так прекрасен я, что даст фламандский скряга
За пару луковиц весь блеск Архипелага,
Всю Яву, если свеж и горделив мой стан.
Надменный феодал иль рыцарь дальних стран,
Я облачен в шелка, в виссон, в одежды мага,
На лепестки мои, как дней старинных сага,
Зверей геральдики лег пламенный чекан.
Искусный садовод на изумленье миру
Дал мне багрянец зорь и царскую порфиру,
Чтоб был я радостью для изумленных глаз.
Великолепию такому нет названья,
Но почему творец не влил благоуханья
В бокал мой, в лучшую из всех китайских ваз?
<1923>
Покидают щели, норы,
Только полночь пропоет,
Шулера, бродяги, воры —
Весь ночной веселый сброд.
Притаившимся кварталом
Мчатся рыцари ножа.
Буржуа под одеялом
Шаг их слушают, дрожа.
Крик — кого-то бьют, наверно,
Звон — дуэль под фонарем,
А за ставнями таверны
Ругань, песни и содом.
Тишина. Проходит стража.
Четок шаг средь гулких плит.
В ночь ушли разбой и кража.
Честная заря горит.
<1923>
Когда у вас в семье знакомился я с вами
(Мне видится крыльцо и клен среди двора
Так ясно, точно всё случилось лишь вчера),
Вы были девочкой с веселыми глазами.
Я снова к вам пришел. У маминых колен
Капризничали вы, но был ваш взгляд нежнее,
Потом и детских игр беспечные затеи
В мечтательности снов нашли уютный плен.
Ах, много утекло невозвратимой прозы
В ту пропасть, что зовут газетный фельетон!
Вы стали девушкой. Раскрывшийся бутон
Нескромно выдает все тайны чайной розы.
Меня томят года и мутной скуки бред…
Как странно, что вчера сошлись мы у камина,
Вы — яблоня весной, цветущий куст жасмина,
Вы — молодость, и я — стареющий поэт!
<1923>
Софи, которая просила меня сочинить занимательный роман.
Вы ждете длинного романа,
Блестящей выдумки, интриг?
Но, дорогая, как ни странно,
Я не пишу подобных книг.
Вина в моем стакане мало,
Роман мой близится к концу,
И наслажденье, как бывало,
Мне петь, конечно, не к лицу.
Счастлив, кто сестринскую нежность
Нашел в любовнице своей,—
Он ею скрасит безнадежность
Таких уже неярких дней.
Ведь все «герои», «небылицы»,
Событий путаная нить
Не могут даже и страницы
В романе Дружбы заменить.
Как грустен вышедший из моды,
Софи, мой собственный роман…
Любовь еще в иные годы
Вам улыбнется сквозь туман,
Еще вы молоды, цветами
Не раз украситесь опять.
Дай бог подольше вам слезами
Страниц романа не пятнать!
<1929>
443. ЭПИТАФИЯ МОЕЙ МУЗЕ
(Тюрьма Сент-Пелажи)
Остановись и перечти, прохожий,
На камне эпитафию мою.
Я пела страсть, а здесь, на смертном ложе,
Любимую мной Францию пою.
Хоть не был стих мой никому обузой,
Тиран его боялся, как огня.
Звал Беранже меня своею музой.
Все грешники, молитесь за меня!
Он, с юных лет стремившийся к досугу,
От школьных муз не бравший молока,
Сам укротил строптивую подругу,
Чтоб с ней забыть неволю чердака.
Мечтателя, пришедшего в столицу,
Я часто согревала без огня.
Как много роз он вдел в свою петлицу!
Все грешники, молитесь за меня!
Я мужеству не раз его учила,
Столь нужному нам в странствии земном,
И там, где страсть всем головы кружила,
Он часто был моим учеником.
Не раз брала я дудку птицелова,
В его силки прелестницу маня,
И нужное подсказывала слово.
Все грешники, молитесь за меня!
Однажды змеем (слово, что похоже
На Маршанжи — он ползал двадцать лет!),
Однажды змеем, износившим кожу,
Ужален был за песни мой поэт.
Готов был суд лишить его на годы
В сыром подвале всех улыбок дня,
Но как могла бы жить я без свободы?
Все грешники, молитесь за меня!
Да, сам Дюпен защитою умелой
Не мог слепой Фемиды обуздать!
Змей Маршанжи, тупить не смея стрелы,
Их целиком был принужден глотать.
И вот в аду, душе моей открытом,
Могу я ждать не меньшего огня,
Сам сатана стал нынче иезуитом.
Все грешники, молитесь за меня!
<1929>
В годы юности моей
Тетка Грегуар блистала.
В кабачок веселый к ней
Забегал и я, бывало.
Круглолица и полна,
Улыбалась всем она,
А иной брюнет, понятно,
Пил и ел у ней бесплатно.
Да, бывало, каждый мог
Завернуть к ней в кабачок!
Вспоминался ей подчас
Муж, что умер от удара.
Не знавал никто из нас
Простофилю Грегуара,
Но наследовать ему
Было лестно хоть кому.
Всякий здесь был сыт и пьян,
И лилось вино в стакан.
Да, бывало, каждый мог
Завернуть к ней в кабачок!
Помню в прошлом, как сквозь дым,
Смех грудной, кудрей извивы,
Вижу крестик, а под ним
Пышность прелестей стыдливых.
Про ее любовный пыл
Скажут те, кто с нею жил, —
Серебро — и не иначе —
Им она сдавала сдачи.
Да, бывало, каждый мог
Завернуть к ней в кабачок!
Было б пьяницам житье,
Но у жен своя сноровка,—
Сколько раз из-за нее
Начиналась потасовка!
Лишь из ревности такой
Разыграют жены бой,
Грегуарша очень кстати
Прячет муженьков в кровати.
Да, бывало, каждый мог
Завернуть к ней в кабачок!
А пришел и мой черед
Быть хозяином у стойки,
Что ни вечер, целый год
Я давал друзьям попойки.
Быть ревнивым я не смел,
Каждый вдоволь пил и ел,
А хозяйка всем, бывало,—
До служанок вплоть — снабжала.
Да, бывало, каждый мог
Завернуть к ней в кабачок!
Дням тем больше не цвести,
Нет удач под этой кровлей.
Грегуарша не в чести
У любви и у торговли.
Жаль и ручек мне таких,
И стаканов пуншевых.
Но пред лавкой сиротливой
Всякий вспомнит день счастливый.
Да, бывало, каждый мог
Завернуть к ней в кабачок!
<1934>