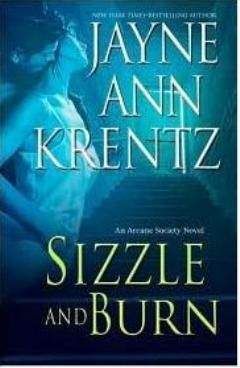В НОВУЮ АНГЛИЮ
На первом этаже выходят окна в сад,
Который низкоросл и странно волосат
От паутины и нестриженных ветвей.
Напротив особняк, в особняке детсад,
Привозят в семь утра измученных детей.
Пойми меня хоть ты, мой лучший адресат!
Так много лет прошло, что наша связь скорей
Психоанализ, чем почтовый разговор.
Привозят в семь утра измученных детей,
А в девять двадцать пять я выхожу во двор.
Я точен, как радар, я верю в ритуал —
Порядок — это жизнь, он времени сродни.
По этому всему пространство есть провал,
И ты меня с лучом сверхсветовым сравни!
А я тебя сравню с приветом и письмом,
И с трескотней в ночном эфире и звонком,
С конвертом, что пригрет за пазухой тайком
И склеен второпях слезой и языком.
Зачем спешил почтарь? Уже ни ты, ни я
Не сможем доказать вины и правоты,
Не сможем отменить обиды и нытья,
И все-таки любви, которой я и ты
Грозили столько раз за письменным столом.
Мой лучший адресат, напитки и плоды
Напоминают нам, что мы еще живем.
Семья не только кровь, земля не только шлак
И слово не совсем опустошенный звук!
Когда-нибудь нас всех накроет общий флаг,
Когда-нибудь нас всех припомнит общий друг!
Пока ты, как Улисс, глядишь из-за кулис
На сцену, где молчит худой троянский мир,
И вовсе не Гомер, а пылкий стрекулист
Напишет о тебе, поскольку нем Кумир.
В одной знакомой улице
Я помню старый дом…
…И ветер занавескою
тревожно колыхал.
За улицею Герцена я жил и не платил,
В Москве в холодном августе в трех комнатах один.
Что мог хозяин вывинтил, не завершил ремонт,
а сам уехал в Индию на медицинский фронт.
Цвели обои в комнатах и делались белей,
особенно на контурах пропавших мебелей.
На кухне света не было, там газ светил ночной,
я более нелепого не видел ничего.
Ты приезжала к полночи со студии «Мосфильм»,
я слышал, как беспомощно «Москвич» твой тормозил.
Как жил я в этих комнатах, так не живу сейчас.
Там был букет, обмокнутый в большой цветастый таз.
Ты целовала сердце мне, любила как могла.
За улицею Герцена уж обмерла Москва.
В оконных отражениях и в прорубях ворот
мелькала жизнь, что грезилась на десять лет вперед.
За плотной занавескою, прикрывшей свет и тень,
уж притаился будничный непоправимый день,
когда на этой улице под майский ветерок
мы разошлись, разъехались на запад и восток.
И на углу, где к Герцену выходит Огарев,
свою обиду вечную я высказать готов —
на то, что годы канули; пора бы знать нам честь,
а встретимся ли заново — Бог весть, Бог весть, Бог весть!
«Мокрой зимы всепогодные сводки…»
Мокрой зимы всепогодные сводки
нам объяснить на прощанье готовы
невероятность мечты-первогодки,
важную бедность последней обновы.
В старой усадьбе бессмертные липы
нас пропускают едва на задворки,
но присмиревшие, как инвалиды,
шепчут вдогонку свои поговорки.
Вот и стоим мы над белым обрывом
мутном отливе последнего света.
Было безжалостным и справедливым
все, что вместилось в свидание это.
Все, что погибло и перегорело,
и отравило последние стопки.
Вот и стоим на границе раздела,
как на конечной стоят остановке.
Вот почему этот мокрый снежочек
склеил нам губы и щеки засыпал,
он, как упрямый студентик-заочник,
выучил правду в часы недосыпа.
Правду неправды, удачу неволи —
то, что отныне вдвоем приголубим.
Не оставляй меня мертвого в поле,
даже, когда мы друг друга разлюбим.
Под крупные проценты бери, пока дают
Поблажки и презенты — а там, гляди, убьют.
Когда совсем не спится, гуляю по ночам
За улицей Мясницкой, где банк и Главпочтамт.
Когда-то жил напротив я со своей семьей,
Но, что-то там напортив, я не пришел домой.
И жизнь пошла по новой, и я остался цел,
То лаской, то обновой замазывая щель.
Что отняла — вернула, чтоб не был я сердит.
Как будто бы фортуна открыла мне кредит.
Среди зимы и лета мой ангел не зевал,
Паденье самолета нарочно вызывал,
Устраивал попутно крушение такси,
Чтоб не было обидно до гробовой доски.
Чтоб я ценил удачи чужое ремесло,
Мне так или иначе везло, везло, везло.
На темные припадки, на бедную хвалу,
На скользкие лопатки, прижатые к стеклу.
От улицы Мясницкой до Сретенских ворот
Среди толпы мне снится шестидесятый год.
И молодость и смелость у времени в глуши,
И эта малость — милость единственной души.
Что сегодня? Первое июня —
первое июня навсегда!
В доме спят, и светом полнолунья
черная заполнена вода.
Поезда перебегают к югу,
промывает небеса Гольфстрим…
Протяни во сне, товарищ, руку,
этой ночью мы поговорим.
Зеленью, куриной слепотою
зарастает поле под окном.
Первое июня молодое
ничего не знает ни о ком.
Две собаки дремлют на веранде,
птица притаилась под стрехой.
Что же вы, товарищ? Перестаньте
плакать на рассвете. Бог с тобой!
И пока мы не проснемся оба,
дорогой товарищ, лучший друг,
колыбель качается у гроба,
целину распахивает плуг.
Корни неба и земли едины —
скоро в этом убедятся все…
Истребители и серафимы
тарахтят на взлетной полосе.
Мы жили радом. Два огромных дома,
по тысяче квартир, наверно, каждый,
не менее. И оба знамениты
в столице этой брошенной и ныне
считающейся центром областным.
Нас разделял унылый переулок,
как и дома, изрядно знаменитый
одной из самых популярных бань.
А для меня еще старинной школой,
построенной купечеством столичным,
как говорили, лучше всех в России…
За девять лет я кончил десять классов
(поди, не всякий эдак отличился!),
но, впрочем, не об этом речь совсем.
Мы жили рядом. Я звонил в любое
из четырех времен, объявших сутки,
и, кажется, на сто моих звонков
она не подошла четыре раза,
ну, пять, ну, шесть, но все-таки не больше.
Я назначал свиданье в переулке,
давал ей четверть часика на то, что
у женщин называется порядком,
и выходил. Она уже ждала.
Она всегда уже была на месте.
И это почему-то восхищало
и восхищает до сих пор меня.
Она приехала в мой город из Сибири.
В ней, очевидно, проступало счастье
от жизни у Невы и Эрмитажа,
дворцов Растрелли, чуда Фальконета
и кучи просвещенья и красот.
Я выходил из подворотни и
глядел на полноватую фигурку
(чуть-чуть, ведь в этом что-то есть —
при должном росте, правильной осанке,
два лишних килограмма — не беда!)
Мы посещали садики, киношки,
пустующие выставки и просто
мне милые пустынные места —
как, например, Смоленку, Пряжку, остров
Аптекарский и тот кусочек взморья,
что неизвестен, издавна запущен,
завален ржавыми, сухими катерами
и досками соседних лесопилок,
и всяким хламом, — знаете его?
За стадионом он напротив стрелки.
Мы что-то ели, если были деньги,
то покупали красное вино
(она другого и не признавала),
и возвращались на речном трамвае.
Мы поднимались на второй этаж
в мою запущенную комнатушку
и пили чай, который я умел
заваривать по старому рецепту.
И я всегда, всегда, всегда, всегда
одну и ту же доставал пластинку,
и радиола долгими часами ее играла.
Горела лампа в пестром абажуре
густым и сладким светом. Вечерело.
Она вытягивала ноги и просила
мой старый свитер — было зябковато,
когда мы выпускали дым в окно.
И было так спокойно. Никогда
мне больше не бывало так спокойно.
Шипел адаптер, разлетался дым,
часы постукивали на буфете.
Я твердо знал, пока она со мной,
покой и ясность, медленная сила,
как плотная свинцовая защита,
вокруг меня. Сибирская Диана,
чуть утомленная прогулкой и охотой,
при тусклом свете затаенной лампы
она была охраной мне, она
одна за нас двоих хранила
покой, в котором бодрствует душа.
Когда я открывал глаза, то видел
ореховые волосы ее,
лежавшие и медленно и тяжко.
(Хотел бы описать точнее, но
не получается.) Тяжелая прическа,
напоминавшая античный шлем,
тем более, что были там и пряди
светлее прочих, словно из латуни.
Овальное курносое лицо,
две родинки на твердом подбородке,
и, Боже мой, зеленые глаза.
Совсем зеленые, как старое стекло,
того оттенка зелени, который,
по-моему, синей всего на свете.
Тогда мы заводили, не спеша
полубеседу, полуразвлеченье:
«Послушай, если сможешь, —
она вдруг говорила, —
поедем в воскресенье
хоть в Гатчину или куда захочешь.
Я в Гатчине была назад полгода.
Какой там парк запущенный, дворцовый!
Я там нашла еловую аллею,
и если ты со мной поедешь,
до смерти не забуду этих елок».
И слово «смерть» она произносила
серьезно и при этом улыбалась
мне уголками губ и поправляла прядь.
И я не знал еще, что всякий день и час,
не связанный в томительный и тесный,
неразделимый узел соучастья,
есть попусту потерянное время.
А впрочем — тут правил нет!
Ведь я любил ее. И я об этом
узнал потом…