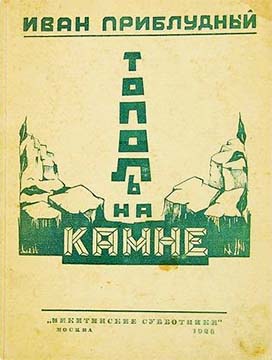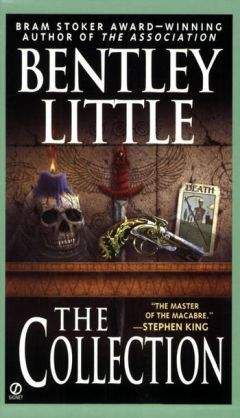Я помню, когда-то… когда-то…
В пятнадцатом что ли году…
За хмелем увенчаной хатой
Издохла собака в саду.
И люди, не зная печали,
Едва пожелав посмотреть,
Спокойно, спокойно ворчали:
«Собаке — собачья смерть…»
И помню: как раз, втихомолку,
В забаву, без тени угроз,
Я в хлебе шальную иголку
Голодной собаке поднес.
И та с благодарностью съела,
Но верен был злобный клинок,
И долго и горько хрипела
Пока не скончалась у ног.
И тут же, как многие дети,
Стараясь под старших уметь,
Я также спокойно заметил:
— Собаке — собачья смерть.
Потом, когда взял меня город,
Я помню: в одном уголке,
Поймали неловкого вора,
С чужим чемоданом в руке.
В те дни, когда стали шататься
Законы богов и царей, —
В судах не могли разбираться…
И чтобы покончить скорей, —
Взмахнули злосчастного вора,
Хватили о камни раз-два —
И вот… только кровь у забора,
Да жуть, где была голова.
И судьи, от этой печали,
Еще продолжая шуметь,
Я помню: зловеще кричали:
— Собаке — собачья смерть!
Я в жизни и лучшее вижу,
Но тем, что так горько пишу,
Я многих при жизни обижу,
Быть может, и жизни лишу.
За это у всякого лона,
Хотя бы положим и тут,
Объявят меня вне закона
И жить у себя не дадут.
У вас будут кровля и дети,
За вас и законы и знать,
Меня же на всем белом свете
Не пустят к себе ночевать.
Такой-то, ненастной порою,
В ничем неотмеченный год,
Навек я себя успокою,
У вечно спокойных ворот.
И голос мой, все еще ранний,
Замрет среди прочих могил,
С обидой таких обещаний,
Каких вам никто не сулил.
И все ж, вспоминая пропажу,
Глядя на последний портрет,
Я знаю, что многие скажут:
— Собаке — собачья смерть.
Исходил я много в эти годы
Всяких стран, губерний и дорог;
Но Кавказа всходы и восходы
Я сравнить ни с чем еще не мог.
То ли дело, — голосу обидно
В щелях и ущельях пропадать…
Ни черта вокруг тебя не видно,
Только гор немая благодать.
И стоишь безвольный, и немеешь,
И молчишь, готовый на скандал,
Потому, что говорить не смеешь
О краях, которых не видал.
Дело даже, собственно, не в этом,
Дело в том, что за последний год,
Только тот считается поэтом,
Кто до слез художественно врет.
Впрочем, я ведь начал о Кавказе,
Ну, так вот: — Безвольный и немой,
Что же я прибавлю к этой фразе,
Кроме дымной сакли под горой;
Кроме слов, что Днепр, Дунай и Неман
Тереку возможная родня…
— Помоги ж мне Лермонтовский «Демон»
Лермонтов, не дуйся на меня:
Начинаю…
…Горы — словно тучи,
Неподвижно — темные пруды,
В облаках ныряющие кручи,
А на кручах сакли и сады.
Заходи в любое из селений, —
И любой хозяин будет рад
Показать плоды своих владений
И подать вино и виноград;
Наведет на лучшую дорогу,
Ни гроша не спросит за труды,
И как мулла — путнику в подмогу —
Теплое пошлет — алла-верды…
Хорошо все это, всякий знает,
Но отведав дружбы и тепла,
Все-таки, чего-то не хватает,
Чтоб душа полнехонька была.
Вот по этим, хитростным причинам,
Разобравшись в благостьях моих
Я спасибо шлю — своим грузинам,
А моей грузинке — целый стих…
Спят ущелья, непробудны горы,
Лик луны так нежно наклонен;
В низких саклях крепкие запоры,
Но не крепче, чем хозяйский сон.
Всюду тихо. Люди все уснули;
Ночь сошла прохладна и бела,
Но хотя темно в твоем ауле,
Я не верю, чтобы ты спала.
Выходи ж, — чуть слышная, как ветер,
Покажись, — чуть зримая, как шаль,
Я сейчас один на целом свете,
И тебе наверно будет жаль.
На душе моей большая рана;
Наклонись и взглядом исцели;
Ты мудра, как целый том Корана,
И свежа, как зелень у земли.
Друг мой смуглый, свет мой полуночный,
Как я рад назвать тебя своей!
Только… к чорту этот стиль восточный,
Где