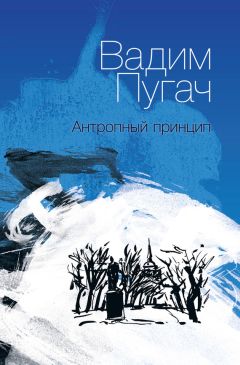Тяжелой до избытка головой,
Всегдашняя моя тяжеловесность
Окажется, возможно, роковой.
Ну а пока в неловкой мелодраме
Тарелки бьют, попискивает альт,
Мы смотрим, как под нашими шагами,
Колеблясь, прогибается асфальт.
«Мне звонит мой рехнувшийся друг…»
Мне звонит мой рехнувшийся друг,
Он боится на улицу выйти,
Он замкнулся в безвыходный круг
Отработанных лиц и событий.
Раз в полгода я трубку сниму,
Чтоб узнать этот голос петуший,
Я шучу, применяясь к нему,
Я пляшу, точно рыба на суше.
Кто ж виновен, что вышел прокол,
Что пожар возникает на гумнах?
Все сходили с ума, а сошел
Почему-то из самых разумных.
Вот и стану я бога молить
Сквозь беседы удушливый выхлоп,
Чтоб хоть эта пунктирная нить
Не заглохла б и речь не затихла б.
Я впускаю вас в подобье земного рая…
Наш долгий разговор из рытвин и колдобин
Становится пути загробному подобен.
И скромный огонек над кухонной плитой
Иных огней и плит напоминает облик,
И вот, вторгаясь в текст по праву запятой,
Зловеще на стену отбрасывает проблик.
Наш долгий разговор с ухаба на ухаб
Становится как путь. Не дальше от греха б,
А в омут головой и прямиком по центру.
Но темен запредел, и в лабиринте фраз
Напрасно я ладонь о камень этих стен тру:
Невиданный тупик подстерегает нас.
Наш долгий разговор о подлом и о горнем
С макушки заводя, заканчиваем корнем,
В хтоническую грязь, как пальцы в пластилин,
Погрузимся. Ага. Мы не отсюда родом —
Нам нужен вождь не вождь, не то что властелин,
Скорее проводник по этим переходам.
Скорее, проводник! И вот уже возник
Какой-то полувождь и полупроводник,
И нас почти тошнит от этакого полу-.
Но мы уже бежим, с одышкой, вперехлест,
И тусклый полусвет от фонаря по полу
Высвечивает вдруг его собачий хвост.
В зубах фонарь несет, как дымовую шашку,
И жирной ляжкой бьет свою другую ляжку,
Но в вязкой полутьме не видно, что за зверь.
Чьи ляжки? Что за хвост? Не Кербера, так черта,
Но мы спешим за ним, и наконец на дверь
Наткнулись. Да, она. И надпись полустерта.
«… жду навсегда», – гласит. Кого? Ужели нас?
Сим изречением вельми ужален аз,
Да, грешный, смертный, да, но не теперь, не здесь же!
Но бас проводника ползет по бороде:
– Не время, так, должно, какой-то шут заезжий
Начало стер, а там как раз «Оставь наде…»
Оставим же ее, как оставляли всюду
Таланта и судьбы разбитую посуду.
Что эта надпись нам? Не русский, не латынь,
Неведомый язык, который всем понятен.
Распахиваем дверь – а там звезда Полынь
И трупный блеск ее невыносимых пятен.
«Лишь за то на свете повезло мне…»
Я ломаю слоистые скалы…
Ты и во сне необычайна…
Лишь за то на свете повезло мне,
Что не лез в начальники. Взамен
Отбывать мне век в каменоломне
И ломать не камни, а камен.
Из художеств покрика и свиста,
Из прыжков пижонских на краю,
Из вальсирующего Мефисто
Извлекаю музыку мою.
Жажду из неверного колодца
Утолив, не утерев губы,
Спящая красавица проснется
И пойдет отсчитывать столбы.
Но пока в симфонии инферно
Европейский слышится напор,
Спит она. И видит сны, наверно,
Положив под голову топор.
«Я не выйду навстречу сирене…»
Я не выйду навстречу сирене,
Я лишился машины в оттенках
Полудохлой, недужной сирени
На облупленных детских коленках.
Я не выйду, так что ж ты завыла,
Изымая меня из постели?
Или то от полночного пыла
Водосточные трубы свистели?
Эта душная музыка, вой ли
Так и липнет рубахой нательной.
Разве знала ты, спавшая в стойле,
Как отец задыхался в Удельной?
Как хрипел на промокшей кровати,
Ужимался до точки прицела,
Все отчетливей и угловатей
Кадыком выступая из тела?
Ты ведь продана, да? Но постой уж,
Я не дам тебе кости и супу,
Но скажи, отчего же ты воешь,
Как собака по свежему трупу?
Вздрогнет груда железного лома,
Пустячок, комментарий к надгробью,
И она отъезжает от дома,
Тарахтя характерною дробью.
«Для чего мне разорванный жест в…»
Для чего мне разорванный жест в
Оголтелой глаголице снега,
Если мягкое эхо торжеств,
Подмерзая, становится эго?
Мы не звенья цепи, извини,
Все привычнее, злее, пошлее,
Нас не двое с тобой, мы одни —
В простынях, у друзей, в бакалее.
И снежок в завихреньях своих
На язык попадает не целясь.
Вот и ловим его за двоих,
Будто соли еще не наелись.
«Не ври, ты не вовсе чужая…»
Не ври, ты не вовсе чужая,
Давай не затеем грызню.
Тебя нищетой окружая,
И сам я себя исказню.
И после беседы короткой,
Сорвав, точно с вешалки, злость,
Я вспомню, как пахнет селедкой
Невбитый, скривившийся гвоздь.
Все было. Оттасканы грузы
Такие, что сохнет рука.
Ужели ты мусорней Музы,
Неважней, чем эта строка?
Конфета плеснет мараскином
И липкую сладость придаст
Тем картам, что мы пораскинем,
Гадая, кто первый предаст.
Раскрой тетрадку, очини к —
Арандаши, запомни даты,
Мой нелюбимый ученик,
Несобранный и туповатый.
В окно перетекает хмарь,
Висок добьет меня до реву.
– Ты не читай, как пономарь, —
Я говорю Пономареву.
И начинают выплывать
Необязательные вещи:
Какой-то коврик и кровать,
И то размытее, то резче —
Девица на календаре —
Ни посмотреть, ни отвернуться, —
Снег, почерневший в январе,
Таблетка на щербатом блюдце.
– Прочти внимательно главу,
Ответь… А, впрочем, что я, нанят?
Ты мертв, а я вовсю живу,
И кто еще тебя помянет?
«Пусть образы виденного давно…»
Я глупо создан: ничего не забываю, ничего!
Пусть образы виденного давно
Сбиваются в стаю.
Спасибо, создатель, я сделан умно —
Я все забываю.
Туман, истаявшее ничто,
Похлебку пустую
Дырявая память, мое решето,
Пропустит вчистую.
Но тонкая пленка, липкая слизь,
Случайный осадок
На дне решета пузырями зашлись
Бензиновых радуг.
За пыль промежутков, за то да се,
Дорогу к трамваю —
Я каждый день отбываю все,
Что я забываю:
Больницы, влюбленности, имена,
Сапог в подбородок,
Моих мертвецов на одно лицо
(Их так обряжают);
Коляску, скатывающуюся с крыльца,
В ней спящий ребенок, —
Господи, пронеси, – он пронесет,
И я забываю
Три глотка счастья на ведро воды,
Сны, где улетаю от тигров,
Стихи, ускользнувшие в никуда, —
Не хватило дыханья,
И вновь не хватает, идут ко дну
Тяжелые звенья,
Жизнь превращая в сплошную одну
Забаву забвенья.
«Десять лет Агамемнон пас Трою…»
Десять лет Агамемнон пас Трою,
Ошибался, плошал.
Жаль, что я ничего не построю
Там, где он разрушал.
Море лижет унылую сушу,
Липнет к берегу бриз.
Жаль, что я ничего не разрушу
Там, где строил Улисс.
Жаль, что я не погибну в атаке
На чужом острову.
Жаль, что я не живу на Итаке,
Жаль, что я наяву.
Слышишь, тень набежавшая, – фальшь ты
Или черная шваль,
Жаль, что по-настоящему жаль, что
Ничего мне не жаль.
И жалеть ни о чем не придется,
И уже не пришлось,
Ибо то, что прядется – прядется
И проходит насквозь.
Перетончу, перемельчу,
Уйду от всех решений,
И станет то, о чем молчу,
Точней и совершенней.
Затем и времени дана
Невиданная фора,
Чтоб только не легла спина
Под розгу разговора.
А там – урок, укор, угар.
Я не люблю угара.
Важней, чем выдержать удар,
Уйти из-под удара.
Так заливают пылкий спич,
Давясь водой сырою,
Пока планирует кирпич
На голову герою;
Выплескивают скисший суп
На лысину пророку,
Стирают отпечаток губ,
Почесывая щеку;
Так душат в логове волчат
В отсутствие волчицы.
И напряженно, но молчат.
Молчат. Пока молчится.
«О нет, не говорите мне про то…»
О нет, не говорите мне про то,
Как на ходу подметки отрываем,
Но вспомним возмущенное пальто
На женщине, бегущей за трамваем.
Оно клубилось вкруг ее колен
И клокотало шерстяною гущей,
И обнимало жарко, как силен,
Живые плечи женщины бегущей.
Трамвай же, электричеством прошит,
Рогами фейерверки высекая,
Досадовал, зачем она спешит,
Такая фря, бегония сякая.
Куда течет, как пена по устам?
Влечет ли рок? Фортуна ль поманила?
А он и сам гремит по всем мостам
Невы и Сены, Карповки и Нила.
Остановись, мгновение. Не трать
Вслепую силы: ты не на параде.