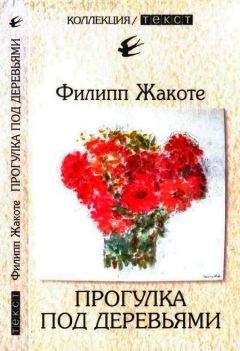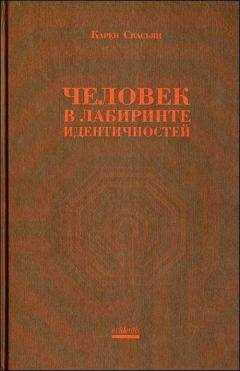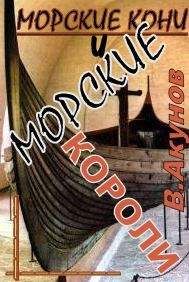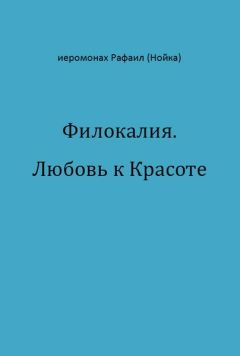Недавно у вас вышла книга под заглавием «Другие дни», это как бы продолжение «Самосева», но в то же время книга кажется совсем иной, именно благодаря ощущению свободы, которая чувствуется даже в рассказе об особенно тяжелых моментах жизни, например, когда вы говорите о похоронах Пьера Альбера Журдана. Ведь этот поэт был в этом смысле вашим единомышленником, то есть он искал свободу, легкость и способы преодоления силы тяжести.
Да, и я скорблю о нем, это был один из самых близких друзей, мы всегда с огромной радостью встречались с ним, когда он возвращался к себе в Каромб; было тяжело видеть, как всего за несколько месяцев болезнь превратила его в высохшего старика. Впрочем, он переносил свою болезнь с беспримерным мужеством. Мы были очень близки, его манера речи и письма отличалась простотой и естественностью; он был гораздо более непосредственным человеком, чем я. Но, говоря это, я все-таки не думаю, что та новая легкость и естественность, которую вы почувствовали в моих последних заметках, возникла благодаря общению с ним и чтению его текстов. Все-таки эти заметки — всего лишь дневниковые записи, следующие одна за другой, но тем лучше, если они создают впечатление новизны; они в самом деле более разрежены, чем то, что писалось раньше. В подобного рода текстах нужно всегда опасаться повторений, перепевов старого. Я думаю, это часть той эволюции, благодаря которой я теперь чуть меньше терзаюсь сомнениями; быть может, не так уж и плохо, если удалось сохранить или обрести заново непосредственные порывы юности, не стать натянутым и чопорным стариком.
Как вы думаете, насколько необходима для художника та внутренняя свобода, которая присуща вам и другим поэтам?
Я думаю, что она и есть само средоточие поэзии; ведь одно из основных ее качеств — это свободное слою — не в политическом смысле, который чаще всего имеют в виду, и не в моральном тоже, но свободное по отношению к мертвой схеме, клише, к газетному языку, свободное от того, что нас обступает, и душит, и всегда готово разрушить самое драгоценное, что есть в жизни. Даже в том случае, когда речь идет о не очень большом поэте, но если его творчество хоть сколько-нибудь самостоятельно, самоценно, оно уже является орудием свободы, причем это происходит само собой, спонтанно. В любом случае оно помогает человеку глубже дышать.
________________
Перевод А. КузнецовойЕсли допустить, что каждый человек имеет свое тайное соответствие в животном мире (самое простое принятое деление — на «сов» и «жаворонков»), то Филипп Жакоте как раз и представляется ближе всего к миру птиц, причем он и «сова» и «жаворонок» одновременно. Сейчас, в восемьдесят один год, это высокий и худощавый человек, немного сгорбленный годами, но сохранивший юношескую (и птичью) легкость порывистых движений, зоркость взгляда, привыкшего всматриваться в небесные и земные дали. Как ни банально сравнение поэта с птицей (Жакоте пишет в «Самосеве»: «Славка, Орфей летнего сада»), но здесь с удивлением ощущаешь за привычными формами реальности некое присутствие древней магии, чудесную связь авгура и птицы. Ласточки, стрижи, горлинки, ястребы, цапли и другие птицы являются в его стихах и прозе бессчетно и постоянно — как небесные камертоны, их голоса и промельки в пространстве участвуют в создании того, что Рильке называл Weltinneraum (внутреннее пространство мира) — когда мир входит внутрь, а сокровенное «я», напротив, устремляется наружу. При этом птицы для поэта больше, чем просто «поэтические образы» или «символы», они означают нечто иное, и диапазон значений меняется в зависимости от направлений внутреннего движения. Недаром первый поэтический сборник Филиппа Жакоте назывался «Сова»[214], а в окончании последней опубликованной на сегодняшний день книги («Трюинас, 21 апреля 2001 года»), звучащей как parole estreme[215], он вспоминает:
Я переживал период, когда «летучие слова», те, что всегда казались мне легкими, крылатыми, упали наземь в жалком беспорядке; как дикие голуби в Пиренеях, летевшие в сети целыми стаями, — я наблюдал это подростком в Стране басков в 1938 году, кажется, нас привели специально посмотреть на это «прекрасное зрелище» — и тогда мне действительно показалось, что это красиво.
Но сейчас, блуждая в лабиринтах памяти, я все спрашиваю себя, удалось ли хотя бы нескольким птицам ускользнуть от летящих на них сетей и невредимыми преодолеть перевал? И того же мне хотелось бы пожелать этим «последним словам».
…
И я спрашиваю — а летают ли в таком небе птицы.
Слова, уподобленные птицам, — они всегда, с самого начала были для поэта воплощением самой безумной и невозможной надежды — «преодолеть перевал» смерти и увидеть, сохраняя память о своей здешней жизни, что же находится по ту сторону, за последней границей зримого. Птицы — психопомпы, проводники в иной мир, и поистине «крылатые слова» тоже нужны затем, чтобы стать этими проводниками — ни больше и ни меньше. Жакоте часто вспоминает ангелов-птиц из «Чистилища» Данте, незримые голоса, сзывающие «на вечерю любви». Данте, великий поэт, которого Филипп Жакоте не осмелился переводить (хотя переводил и Гомера, и Гёльдерлина, и труднейшие «Уединения» Гонгоры), стал для него тем же, чем для самого Данте был Вергилий, — проводником в адских щелях и небесных высотах реального (никогда не иллюзорного или выдуманного!) мира. Именно с Данте можно с полным правом сравнить этого неуверенного в себе, сомневающегося, часто меланхоличного, но иногда и радостно оживленного путника, посвятившего себя служению Зримого и поискам неуловимого и невозможного. Творчество Жакоте — это свидетельство о выживании поэзии после всех духовных катастроф Нового времени, предлагающее совершенно новый уровень серьезности и глубины, которая противостоит (пусть даже это будет заведомо «неравная битва»!) всем формам гибели, на которые так щедра наша эпоха.
* * *
Швейцарец по рождению, Филипп Жакоте относится к старшему поколению современных французских поэтов, получивших признание как некое целостное литературное явление. Это люди (часто связанные между собой литературными и дружескими отношениями), родившиеся преимущественно между 1923 и 1937 годами. Среди них нужно назвать прежде всего Ива Бонфуа (его поэтические произведения и теоретико-критические изыскания в области поэтики и искусства достаточно хорошо известны в России). К тому же поколению следует отнести Жака Дюпена, Андре дю Буше, Эдуара Глиссана, Жака Рубо, Мишеля Деги и Дени Роша. Каждый из них интересен и заслуживает отдельного разговора.
Совершенно особое и неоспоримое место занимает в этой плеяде Филипп Жакоте, чей голос, как может показаться сначала, звучит совсем не громко. Однако бывают негромкие голоса, идущие из таких глубин, что, прислушавшись к ним однажды, начинаешь чувствовать иначе, видеть иначе, словно приближаешься к источнику жизни, словно вот-вот разгадаешь ее тайну… Если сегодня еще остаются хоть какие-то возможности «прикоснуться к таинству», то внимательное чтение поэта такого уровня, как Филипп Жакоте, может стать путем, ведущим к настоящему духовному посвящению. (Но не прямой проторенной дорогой, а скорее незаметной тропкой, петляющей среди невысоких холмов Дрома, в неярком, но вечном сиянии средиземно-морского пейзажа.) Ибо большая часть его жизни прошла в городке Гриньяне, в предгорьях приморских Альп. Поэт и сейчас живет там со своей женой, художницей Анн-Мари Эслер. Поженившись в 1953 году, они покинули Париж и обосновались в этом провансальском городке, где жила когда-то мадам де Гриньян, дочь маркизы де Севинбе, и где нашла последний приют сама маркиза. Но это литературное соседство оказалось случайным, выбор места был обусловлен причинами, которые даже сам поэт затрудняется с точностью определить, но пытается их постичь, обращаясь снова и снова, из года в год, к описанию этого края.
Швейцарский поэт навсегда связал свою жизнь с Францией. В Гриньяне написаны почти все его поэтические книги (за исключением первых юношеских сборников), и почти все они так или иначе описывают эти места, ставшие второй родиной Жакоте. Впрочем, «первая» находится сравнительно неподалеку — он появился на свет в романской Швейцарии, в кантоне Во, в городке Мудоне, недалеко от Лозанны, в семье ветеринара. Его отец, фигура вполне незаурядная, — его профессия была тогда редкой и доходной, он был офицером и ученым, пассионарием и эрудитом, самостоятельно изучившим десятки языков. Мать, напротив, была по натуре сдержанна и скорее замкнута, хорошо знала музыку и литературу. Безусловно, что сын чувствовал себя гораздо ближе к матери, чем к отцу. Но во всем творчестве Жакоте мы почти не встретим никаких упоминаний о семье и детстве, разве что очень прикровенные. Здесь поэт делает сознательный этический выбор (совпавший с врожденными свойствами души); в одном из интервью он замечает по этому поводу: «Я никогда не был способен, в отличие от многих современных писателей, из какого-то допотопного целомудрия говорить о своей личной жизни». Кроме того, Жакоте всегда остерегался нарциссической и ностальгической замкнутости на своем детстве. Однако «отказ от детства» имеет не только нравственное, но «философское» обоснование, о чем Жакоте говорит в ранней книге прозы «Элементы одного сна»: «…бесполезно оплакивать наше детство… мы, скорее, должны меняться вместе с часами и годами, преображать в вечное настоящее всегда распахнутое пространство позади и впереди нас (освещаемое тусклыми звездами нашего незнания)…» С годами поэт становится снисходительней к прошлому, и в его стихах и прозе начинают чаще появляться вкрапления детских воспоминаний.