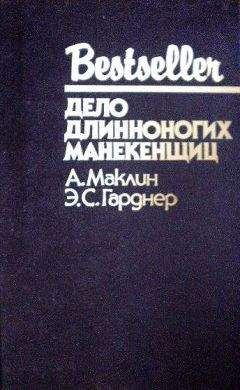«Она весной была бледна»
Она весной была бледна и взгляд рассеян
ей не хотелось ничего такого, просто
весной трава сосала из нее для роста
алоэ соки, витамины «бэ-двеннадцать».
Он делал ей уколы в попу, протирая
следы от точек ватой, полной влагой водки
а ночью в дреме, вся в поту она кричала:
«Навоходонасэр!»
И вот, однажды, посреди сырой дороги
пред ней как вкопанные джипы-носороги
остановились — три машины, а за ними
в носилках стройный, полуголый Царь Египта.
И эвкалиптовою ветвью прикрываясь
ступил на землю он, вонзил копье ей в попу!
Она бежала долго, вроде полевропы
И люди вслед коричали ей:
«Навоходонасэр»!
И в этом месте над Россией расцветали
фиалки, пурпурные маки и тюльпаны
в прожилках желтого, бордо, слегка индиго
а по краям фламинго розового цвета.
И на воде виднелись ушки носорога.
«Заверните меня в плащеницу…»
заверните меня в плащеницу
пусть проявятся хвост и копытца
заверните меня в лист капустный
пусть в прожилках пустоты хрустнут
заверните меня в фотопленку
пусть проявится плач ребенка
заверните меня за уздечку
у кобылицы сегодня течка.
В млечный путь, моя подруга, в млечный путь!
Дай нам воли — мы покатимся как ртуть!
От порога до пологой до горы
Догорать на пепелище у звезды.
В млечный путь, моя подруга, в млечный путь!
Дай нам водки — мы отправимся тонуть
От извилистой реки до дна по грудь
И взболтаем горя илистую муть.
В млечный путь, моя подруга, в млечный путь!
Добеги одна, до Веги добеги!
А я буду вслед губами ветер дуть!
В млечный путь, моя подруга, в млечный путь…
На имя не иди, на отклик — кайся.
На спину впереди не опирайся.
На волю не играй, играй на долю.
Настойку не давай из крови пролитой.
На имя не иди, не одевайся.
Придет Она сама. Ты кайся, кайся…
Ангел это девочка с корзинкой,
Банджо это воля диких прерий.
Верь мне — это мысли из материй
А любовь — побег за паутинку.
Вот. А бывает там. Догорает то.
Год. А бывает так. Добывают зло.
Врет. А бывает нет. Но всегда кричит.
Лед. А бывает жгет. А бывает — спид.
Вот! Не бывает так! Чтобы вдруг без драк!
Жмот! Он мне дал пятак! Обещал сто лет!
Плод! Он не твоя смерть! Она утром спит.
Бог — это не костел из рам! Это крик и стыд.
Но бывает так. Полыхает то. И вон там стоит
…Светит солнышко, снежок
под ногой моей хрустит,
под второй комочком стих
застревает как ледышка!
Я упал, смеюсь, лодыжка
больно; надо мной толпа
молодых совсем девчат!
Жалко, шубки их до пят!
Вот согреет землю лето,
я с ледышкой повторю!
Упаду, прочту стишок
и уткнусь в траву с цветами,
чтоб не видеть стройных ног,
чтоб не чувствовать разрыва
между школьницей и мной.
А потом пойду домой,
расскажу об этом «маме»,
что зовет себя женой,
посмеемся водки выпьем,
я ей деньги все отдам;
или нет не все — на дам
тратить деньги не прилично,
я на книжки их потрачу,
выйду в парк — и на скамейку!
Мимо — школьницы, я — мрамор,
подойдет девчонка в «мини»,
если спросит почему
кверх ногами я держу
книжку Пушкина — отвечу:
Пушкин летом так любил
познакомиться. Поэтам
надо видеть мир не так,
и не этак — изнутри
молодой, большой любви…
Пушкин мне спасибо скажет,
что держал его лицом
к юной фее; с синяком
под большим красивым глазом
выйду утром на работу,
сослуживцам передам
опыт свой ошибок трудных:
не встречайте ваших мам
если в парке вас обняли
три девчонки попрося
почитать стихтворя
и побыть стихотворенком
в Новый год, на рождество!
Будет вам потом бо-бо,
Или глазу, или члену
СП[2] Пушкина читать…
«Прощай, любимая, прощай…»
… Прощай, любимая, прощай
я улетаю с облаками
прощай им — падшие на камни
слезами.
Прощай, любимая, прощай
я облетаю пустоцветом
прощай и… скушно этим летом
быть фиолетовым.
Прощай, любимая, прощай
я заплетаю ленты в косы
прощай им шляпки из соломки
и в ведрах — росы
Шампани!
Прощай, любимая, прощай
лежи комочком
в обьятьях-щупальцах у строчек…
ОН — ХОЧЕТ!
(смотрит вниз)
Тебя, любимая. Прощай.
На камень!
«Мурка, Мастер и Маргаритта»
Спица, воткнутая в мозг
не удержит
в положении прилежном
смоляных копну волос
Маргаритты
Колокольчик на пупке
не умножит
эмбрион вождя до рожи
истопного у печи
Мастера
Банка денег за хвостом
не на кормит
килькой тонущую кошку
ведь мелодий не набулькает
Мурка
Водки выпей и садись на свою
сивку-бурку…
«Я ЖЕЛАЮ НАМ ЛЕГКОЙ СМЕРТИ!»
Я желаю нам легкой смерти
у свечи, в посторонней церкви,
на деньгах и на мокрой постели,
на стихах, или с криком «верю!»,
с Моисеем, в ногах гирей
в той пустыне, на лысой горе,
или в зоне, с кайлом в руке,
а может рядом с пьяным погонщиком,
или в форме с новым погончиком…
Я желаю нам легкой смерти
ровно в полночь в своем кабинете
рядом с дьяволом на львиной охоте,
а может в Питере, на болоте…
Я желаю умереть на вздохе
у седьмой по счету пройдохи
в ее красной мягкой постели.
Я желаю нам легкой смерти
на чужой красивой планете,
на пороге желтого Дома
или в жуткой пьяной канаве,
а если повезет — в колонне
на пыльной прямой дороге,
или в покошенном стоге
глядя в глаза молодой волчице
или от птицы желаю смерти
или от жара горчицы
или от сотни выпитых банок
апперетива «Бьянки»,
от анекдотов «Анки»,
я желаю нам легкой смерти
тостуя за жизнь, за гранки,
во время беседы у Бога
получая ножиком в сердце
я желаю нам легкой смерти
от недостачи в банке
от песен сибирской Янки
или от съеденной мертвечины
за стальной Кремлевской стеной.
Я желаю нам легкой смерти
от подарка своей дорогой
и ненаглядной теще,
от осенней коварной лужи
или от фразы «кому ты нужен?
И что есть причина смерти?
А может ты просто — упал и умер?
Или совсем уже полоумен?
Или обманут собственным другом?
Или другим поэтом контужен?
Или звуком твой мозг нагружен?..»
В общем, ясно: в Бога не веря
покидая свою купель
я желаю нам легкой смерти
(в России вечная цель…).
Впрочем, каюсь, солгать не могу
я желаю нам полной жизни,
когда кровь и слюна брызнет
от прочтения этой строчки
той последней своей ночью
а потом отойти желаю
от желанного мне края
и вкусить пару новых строчек,
и бежать от стихов, где прочерк
Вместо боли в конце точек
и упасть на луга в пропасть
где мы кушать и спать просим
и в начале «НЕ Я» восклицаем
тянем жилы и жалим, ставим
знак вопроса нерукотворный
под словечком простым «покорным»…
Вольно! Почесть дана. Каюсь
Выхожу из себя, таю,
Не рожден, но уже умираю
в глубине своих лучших лет…
Коченею, колюсь костью
мерзну, жду, открываю гостье,
реверансы, поклон, на пол,
Хруст в спине, в животе, на кон,
Ставим голые мысли в образ,
А затем пустота, голос. И отсчет:
— раз, два, три, готовы?! Взлетаем!
— Но куда?
— А так, черкнуть слова.
И в словах умереть. Слегка…
Впереди еще много слов….
Да простит меня, Бог — верю!
Пока…
На белом, бледном полотне стояло блюдо.
На нем — два яблока, лимон; и край салфетки
Едва заметный плавный реверанс соседке
Бутылке тонкой, налитой до края,
Исполнил кружевами. Пламя,
Едва ли видное чьему-то глазу,
Слегка кольнуло по хрустальной вазе
С цветами. Они своими тонкими шипами
Готовы были указать обидчице на место,
Но кресло, своим пустующим и одиноком
Видом удерживало время, и обиду
Яблока, готового скатиться на пол.
Его придерживал графин — на бледной,
Матовой от камерного холода
Хрустальной стенке замерла слеза. Пчела
Пыталась окунуть свое коротенькое жало
В бокал из старого каленого стекла,
Присыпанного пудрой по овалу.
Но тщетно — глубина событий не давала
Пчеле достать до дна, окутанного пылью.
И замерла она. Под абажуром.
Иголки света, растопыренною горсткой,
Сквозь дырочки материи из шелка
Держали потолок под заданным углом.
Втроем они стояли у окна. И ждали вечность.
А кресло ждало одного. Его.
И дверь открылась…