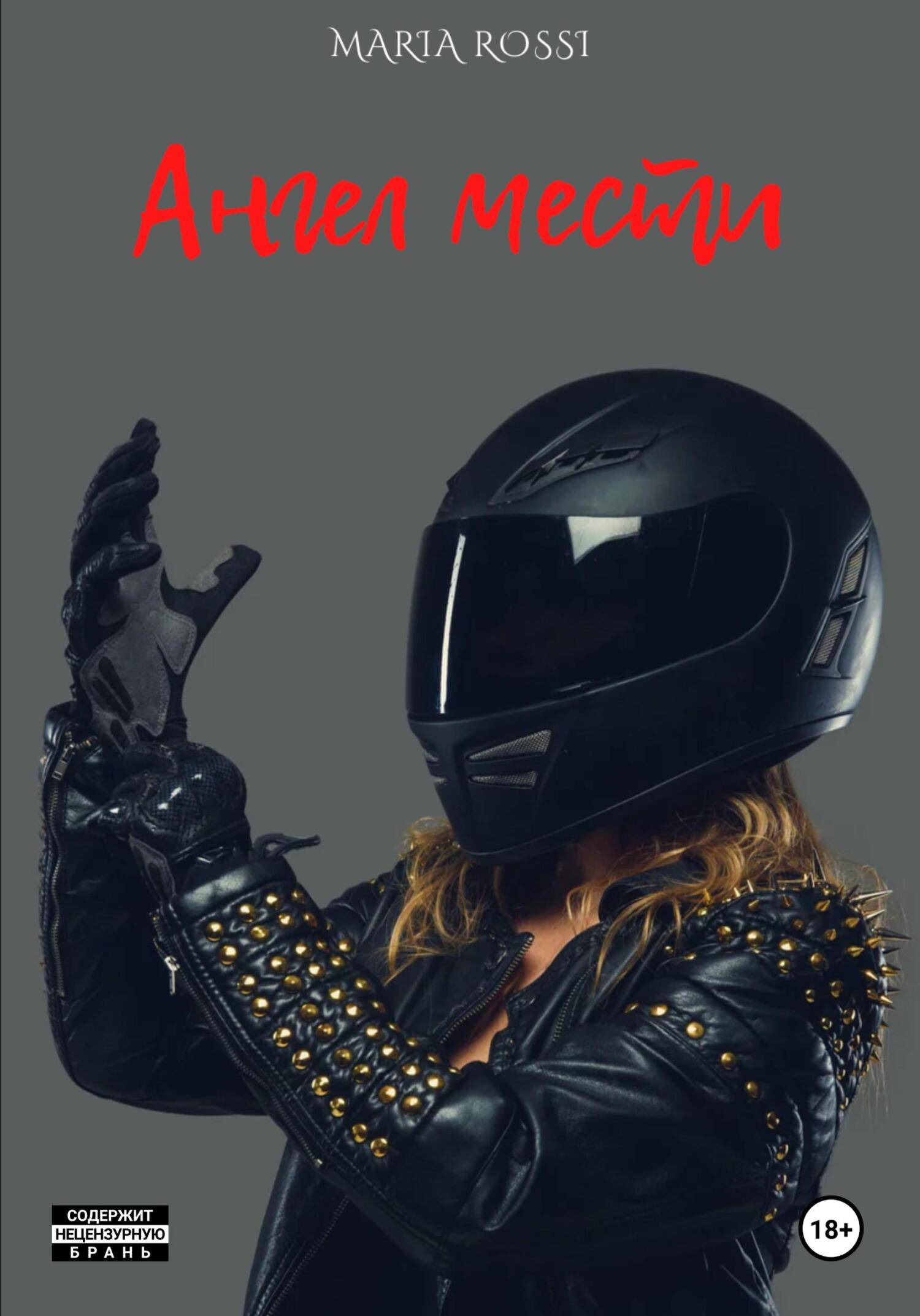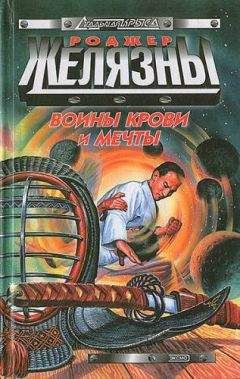Виктор Кривулин, рожденный в военном госпитале в 1944 году, ощущал себя бессознательным свидетелем, призванным понять войну как состояние длящееся, пронизывающее сегодняшний, а может быть, и завтрашний день. Поэтому, обращаясь к ней, заклиная ее, Кривулин говорит от имени своего поколения, от имени культуры, замковым камнем которой он был. Эта книга и стихи, в нее включенные, не предотвратят и не остановят войну, но позволят заглянуть ей в лицо, разоблачить ее и ей противостоять. В книге собраны стихи 1967–2000 годов.
ах пускай она поплачет
ей ничего не значит
что пескарь на сковородке
скоморошничает скачет
На руинах межрайонного Дома Дружбы
тоска периферийная по центру
сидеть среди отмеченных Системой
пока ансамбль готовится к концерту
и режиссер свирепствует за сценой
не реже раза в год наполнившись как церковь
под Пасху помещенье Дома Дружбы
рукоплескало прибалтийскому акценту
носило на руках кавказ полувоздушный
примеривалось к тюбетейкам
рядилось в украинские шальвары…
увы! одёжка стала не по деньгам
полезли трещины, облупленный и старый
стоит как насмерть на своем восторге
мир вечной молодости, праздник урожая
колесный трактор сталинградской сборки
чихнул, заглох из фрески выезжая
на развороченные плиты вестибюля
где ватники строительной бригады
послеполуденными фавнами уснули —
им больше ничего уже не надо
Метампсихоза – это значит мне
по меньшей мере выпадет родиться
близ моря, в маленькой воюющей стране,
чей герб лазорево-червленый
подобен допотопному зверинцу
сплошные львы орланы и грифоны
и черт-те что на небесах творится
у горизонта – горб супердержавы
как тени сизые, смесились корабли…
на крабьих отмелях, в ракушечной пыли
сияло детство ярко, среди ржавой
подбитой техники искали что взорвать
куда прицелиться для смерти и для славы
посмертной – чтобы как-нибудь опять
воскреснуть в государстве островном
под снегом киев как во сне
и век бы спать ему и свет мешая с ватой
спохватываться с вечностью хвостатой
в обнимку на днепровском дне
что видно снизу? взгорья да холмы
под снегом, как во сне, —
в пещерные утробы
все возвращается от ежедневной злобы
от холщевитой банковской сумы
и нищета приняв парадный вид
над спящим материнским городищем
распяливает руки шевелит
губами жестяными и по тыщам
чьих – рыщи хоть по дну —
имен уже не сыщем —
молитву поминальную творит
Торжество часов песочных над механическими
заунывное сперва по кругу бормотание
возрастанье темпа выкрики приплясывания —
и свистящая спираль маго-метания
с силой расправляется разбрасывая
комья почвы сапогами утрамбованной
камни арматуру со строительства
брошенной лечебницы психованной
для придурков из последнего правительства
это их – не наша остановка времени
в механических часах подвисших черной гирею
над вокзалом где столпотворение
где поют сирены и снуют валькирии
где на месте кровли – ночь прямоугольная
светлые дымки на фоне звезд бесчисленных
так работает подмога дальнобойная
что вокруг песок, один песок бесчинствуя
из ладони на ладонь пересыпается
это ли не есть развеиванье прошлого
по пространствам где не просыпаются
без молитвенного воя полуношного?
Вертоград моей сестры,
Вертоград уединенный…
Об этом знают сестры или вдовы,
над фотографией склоняясь безутешной —
внезапный есть предел у тяжести пудовой,
там облак неземной и воздух вешний
им дышишь – не надышишься и снова
глядишь насквозь его – не наглядеться всласть
коротколапая приземистая власть —
его обнять не в силах до конца
в нем сохраняется горбатая надежда
на претворенье крови и свинца
в сиятельные гроздья винограда
и рот его раскрыт, подставленный под град
из сестринского вертограда
и вертолет его так празднично горит
как будто весь надраен для парада
Плачьте дети, умирает мартовский снег
в марте – хриплое зренье, такое богатство тонов
серого, что начинаешь к солдатам
относиться иначе, теплей, пофамильно, помордно:
вот лежит усредненный сугроб Иванов
вот свисает с карниза козлом бородатым
желтый пласт Леверкус, Мамашвили у края платформы
черной грудой растет, Ататуев Казбек,
переживший сгребание с крыши, трепещет
лоскутами белья в несводимых казарменных клеймах…
Каждый снег дотянувший до марта – уже человек
и его окружают ненужные мертвые вещи
а родители пишут ему о каких-то проблемах
да и письма их вряд ли доходят
В юности был стихотворец
нынче священник обремененный
детьми и собственным домом
без телевизора. Дети о фильме «Горец»
услышали только в классе, на уроках
Закона Божьего, только шепотом. Шепот казался громом.
Война ведется в горах. Самолеты,
говорят, бесполезны. Оттуда приходят люди
с лицами хищных полуподбитых птиц
и шепчутся с их отцом и варенье из красной смороды
нахваливают но оставляют на блюде
горы окурков. И до утра имена европейских столиц
под потолком невысоким
в сизом дыме висят
в доме без телевизора но с огородом и садом
балканский тополь карточный Восток
за горизонтом взорванная впрок
сначала церковь а затем мечеть
сейчас там госпиталь пекарня время печь
армейский хлеб из кукурузной шелухи —
и в общем перспективы широки
а среди прочего не так уж там нелеп
американец пишущий стихи
суфийские – о Мельнице Судеб
ты спрашиваешь – чья это земля
чей зелен виноград чей горько-солон хлеб
она ответит чуть пошевеля
плечом упертым в берега Босфора:
землетрясение побочное дитя
Резни и Распри, человеческого спора
о Боге и земле
ребенок-щель
этническую карусель