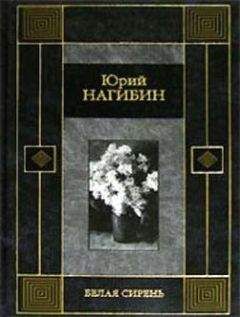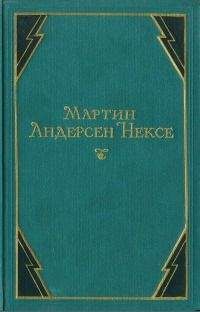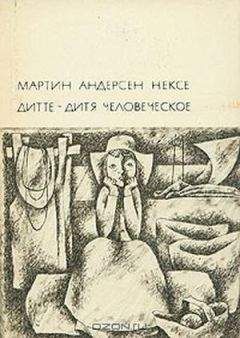— Аве, Нексе, певец обездоленных! Какими судьбами! — Майер не без изящества кланяется Маргрете, подмигивает детям и плюхается на стул рядом с Нексе.
— Что тут у вас происходит? — спрашивает Нексе.
— Тут? Ровным счетом ничего, играют в солдатики. Ну, а в Мюнхене осадившийся пивом шизофреник пытался совершить переворот.
— Всего лишь? А кто этот спившийся шизофреник?
— Некто Гитлер, в девичестве Шикльгрубер. Бывший ефрейтор, контуженный то ли гранатой, то ли пивной кружкой. Но всю компашку быстро обезвредили и кинули за решетку. Этот детский бунт уже получил прозвище «Пивной путч»… Одним словом, ничего серьезного.
— Пивной путч — смешно. Но как бы потом плакать не пришлось. История щедра на печальные примеры: начинают дети и сумасшедшие, а расплачиваются взрослые, серьезные люди. Я давно приглядываюсь к послевоенной Германии: из-за растерянности, подавленности, показного миролюбия и демократических поз все чаще выглядывает кабанье рыло реваншизма.
— Вы всегда были слабым политиком, Нексе. Ваша Веймарская республика — дама покладистая, но, когда надо, и жестокая. С военными авантюрами покончено. Но думать, что Германия удовлетворится ролью второстепенной державы и будет послушно принимать скудную пищу из чужих рук, — ребячество, хуже — идиотизм. Мы недолго сохранили название рейха. Такой народ в узде не удержишь. И черная кровь Рура…
— Да оставьте вы Рур в покое! — вскричал Нексе. — Дайте людям нормальную жизнь, покончите с инфляцией, поставьте измученной стране здоровые и достойные цели, ведь ваше правительство называет себя народным…
— Яйца курицу не учат, — жестко сказал Майер. — Мы знаем, что делаем. И, как видите, зорко храним республику от всяких посягательств. Лучше скажите, как вы? Почему здесь?
— Я устал от Дании, а Дания устала от меня. Поживем врозь…
— Заигрывание с большевизмом к хорошему не приводит, — наставительно сказал Майер. — Здесь кое-что известно о ваших подвигах. Но мы не такие провинциалы, как ваши соотечественники, и по-прежнему держим двери открытыми. Терпение — величайшая добродетель социал-демократии.
— Я это уже слышал. Какой теперь удар рабочим вы замыслили?
— Вы неисправимы, Нексе, — гнусаво сказал Майер. — Но жизнь научит вас уму-разуму.
— Я всегда учусь у жизни, — улыбнулся Нексе. — Похоже, подали наш поезд. — Он поднялся. — Сервус, Майер! Где-то встретимся мы теперь?..
…Зимний вечер. Женщина смотрит в окошко на облетевшие деревья, на темную пустынную деревенскую улицу, на холодно поблескивающее под луной озеро. Это Маргрете. Лицо ее замкнуто и печально. Прислушалась, прошла в детскую. Инге разметалась во сне, что-то бормочет, порой вскрикивает. Маргрете пробует ладонью лоб дочери, накрывает ее одеялом и прогоняет страшный сон — девочка притихла.
Хлопнула входная дверь. Маргрете вышла из детской, зажгла свет в гостиной, и в этот свет шагнул из прихожей Нексе с красным, нахлестанным ветром лицом. Его бодрый, здоровый вид резко контрастирует с сумрачным обликом Маргрете.
— Уже вернулся?.. — сказала она тусклым голосом.
— Нельзя сказать, что меня приветливо встречают.
— Я не ждала тебя так рано. Будешь ужинать?
— Меня накормили после лекции. Отличные свиные сосиски и кружка баварского пива.
— Ты где ляжешь?
— Почему ты всякий раз спрашиваешь меня об этом? — сердито сказал Нексе.
— Разве?.. Не замечала.
— Ты стала какая-то странная, Грета, то рассеянная, то резкая, порой просто грубая. Откуда это у тебя?
Она чуть помолчала, затем сказала, глядя прямо в глаза мужа:
— Мне не нравится немецкий вариант. Ты выгадал себе полную свободу, а меня лишил всего. Думаешь, мне очень весело в этой дыре?
— Тебе не хватает общества художников?
— Если хочешь — да!
— Не надо, Грета, мы же условились…
— Мало ли о чем мы уславливались, но ты не выполняешь условий. Что у меня есть: дети и кухня, дети и кухня, и так до одурения. Время забито, а душа?..
— Мне кажется, ты делишь и другие мои заботы, — осторожно сказал Нексе.
— Ты имеешь в виду, что спихнул на меня своих самарских питомцев?.. Я радовалась и этому, хоть какой-то выход из четырех стен. Но кончился твой голубой самарский период. Вот письмо. Советское правительство сердечно благодарит, но больше в варягах не нуждается.
Нексе берет письмо, пробегает его глазами.
— Я рад. Что ж, — говорит он слегка наигранным тоном, — значит, у Советов дела идут на лад. А я могу теперь засесть за большую работу.
— Господи, опять начнется старый кошмар!
Нексе испытующе смотрит на нее.
— Наверное, нам полезно на время разъехаться. Я смогу работать, как привык, а ты не будешь раздражаться. В Констанце легко найти пустующий домик. А по воскресеньям я буду приезжать. Хочешь, вызову маму тебе на подмогу?
— Чтобы она следила за мной — этого еще не хватало! Нет, Мартин, если я уж что решу, меня никто не остановит.
— О чем ты, Грета? Я хочу спасти нашу жизнь. Мы плохо живем. Мы оба стараемся, но ничего не выходит. Видимо, не так легко простить…
— Я тебе все простила, — искренне сказала Маргрете.
— Есть все-таки разница…
— В чем она?
— Русские говорят: плевок из дома, плевок в дом. Моряков, возвращающихся из далекого плавания, нередко поджидает в семье лишний малыш.
— Я знаю моряка, который привез из плавания шестьдесят пять малышей, и жена их всех приняла.
— Мне не до шуток, Грета. Если хочешь, разница в том, что я не растрачивал на других душу.
— Тогда это еще хуже… — тихо сказала Маргрете. — Беда в том, что и на меня ты не хочешь потратить ни вот столечка души. Ты сам по себе, я сама по себе.
— Давай сделаем еще попытку. Проверим нашу нужность друг другу.
— Ох, Мартин, ты всегда умеешь настоять на своем, — устало сказала Маргрете. — Только к добру ли это?..
…Ранняя весна. Нексе сходит с поезда и быстро шагает по дороге к своему дому, мимо цветущих кустов и деревьев в молодой листве. В руках у него букетик полевых фиалок. Подходит к дому. Ставни наглухо закрыты, и это придает дому какой-то нежилой вид. Распахнув калитку, он быстро пересекает маленький садик, открывает ключом английский замок и входит в дом. От запертых ставен тут темно, как ночью. Нексе нашаривает выключатель и зажигает свет.
— Грета! Грета!.. — зовет он.
Никто не отзывается.
— Вставайте, сони! Отец приехал. — Он идет в гостиную-столовую, мертвая тишина. И первые следы разора ударяют его по глазам. Вся мебель на месте, но нет скатерти на обеденном столе и штор на окнах, со стен сняты фотографии в рамках, исчезли все те мелочи, что делают дом живым. Охваченный страшным предчувствием, он распахивает дверь в спальню и видит голый остов кровати. Он пятится в гостиную и наконец-то замечает письмо посреди стола. Медленно подходит, разрывает и без сил опускается в кресло. Букетик выпал из его руки.
— Все… — шепчет он. — Все!..
…Он и сам не знал, сколько времени так просидел. Он очнулся от присутствия чего-то постороннего в комнате, чего-то непомерно-огромного, вытеснившего стоялый воздух и наполнившего жилье запахами зверя и луга. Прямо перед ним высился громадный бык с устрашающей и добродушной мордой и кольцом в носу. А между могучих рогов пристроился подросток лет двенадцати в рваных штанах и грубой рубашке с закатанными рукавами. Его большой рот и пристально-пытливый взгляд делают его, несмотря на разницу в возрасте, разительно похожим на поникшего в кресле старика. Но тот, погруженный в свою боль, не сразу это замечает.
— Допрыгался? — развязно спрашивает мальчишка. — Сам виноват. Какую женщину потерял!
Нексе смотрит на него с возмущением.
— Что ты в этом понимаешь, щенок? И нечего разъезжать на быках в моем доме.
— Кто при скотине живет, все про любовь понимает, — нахально говорит мальчишка, оставляя без внимания второе замечание. — Она в сто раз лучше тебя, честнее, добрее, искренней. Да ведь ты свое дрянное мужское самолюбие тешил. Ну и получай!
По лицу Нексе катятся слезы.
— Что нюни-то распустил! Как был плаксой, так и остался.
— Помалкивай! — разозлился вдруг Нексе. — Как ты ревел, когда девушки-работницы стащили с тебя штаны?
— Нашел что вспомнить! С тебя сейчас тоже штаны стащили. Ну и видик!.. Ты же голый, перед самим собой голый, а это похуже, чем перед дурами-девчонками. Борнхольмский гранит! Так тебя прозвали. Да какой ты, к черту, гранит — мешок с мокрой глиной.
— Издеваться легко. А как жить дальше? Я не могу без нее. Я только сейчас это понял… Просить прощения, кинуться в ноги?..
— Дурр-рак! — со смаком сказал мальчишка. — Когда женщина сама уходит — это все… Назад не жди. Мужик может вернуться, женщина — никогда.