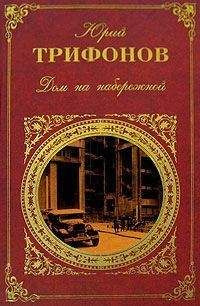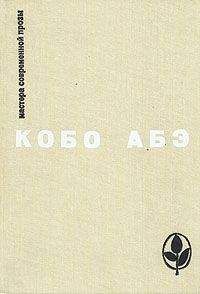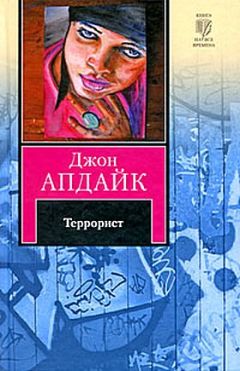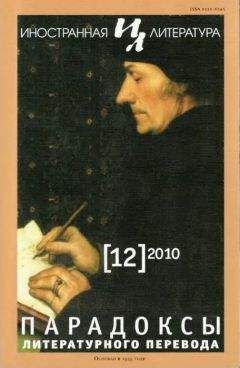— Ну ладно, — вздыхает Прохоров. — Иди. У тебя там дел, наверное…
Она уже собирается уйти, как вдруг — происходит странное… неожиданное… Углы губ медленно, словно преодолевая препятствие, раздвигаются, губы отходят друг от друга, показывается белый ряд зубов — улыбка-усилие мелькает на лице женщины. Прохоров изумленно смотрит на нее, ожидая слов, какого-то жеста… Но — все кончилось в ту же секунду. Женщина сжимает губы, в глазах — испуг, ужас от собственной необычайной выходки… Фигура ее мелькает в луче солнца, падающем из дверной щели, и — исчезает…
Прохоров долго не может оторвать взгляда от двери. Упираясь спиной в стену, он сидит в полутьме, пытается понять, что же произошло, и не может. Осторожно встает, подходит к двери, приоткрывает ее и сквозь образовавшуюся щель смотрит во двор. Женщина несет котел — видимо, тяжелый, она ставит его на землю, передохнуть, стоит, застывшими глазами уткнувшись куда-то в пространство.
Что же произошло? Что же это было?.. Прохоров бесцельно бродит по дому.
Да не было ничего! Он достает из своего вещмешка тряпицу, в которую завернуты иголка и нитки. Снимает гимнастерку. Непригодными для тонкой работы пальцами долго вдевает нитку в ушко иглы… Складывает края распоровшегося шва…
За этой работой его застает старик: коротко взглядывает на Прохорова, просовывает голову в дверь и кричит что-то во двор.
Женщина появляется мгновенно, словно сплетается из воздуха.
— Дай, — говорит старик Прохорову и кидает гневный взгляд на женщину.
— Да ладно, — бормочет Прохоров. — Чего там… — Но протягивает женщине гимнастерку, сует в руки комком, не глядя. — Иголка… не уколись… — И, освободившись от гимнастерки, не знает, куда деть себя, голову, руки, глаза.
Старик разгневан страшно, лицо бронзовеет, становится резким, он добавляет еще какие-то слова, которые окончательно уничтожают женщину, — Прохорову кажется, что она даже ростом стала меньше. Слава богу, ему хватает сил молчать.
Старик оглядывает комнату — напоследок, все ли в порядке — и уходит.
Женщина сидит в своем углу, склонившись над прохоровской одеждой. Видно только, как двигается рука, игла пронзает ткань. Потом голова склоняется совсем низко, женщина перекусывает нитку, губами почти касаясь гимнастерки. Поднимается…
— Положи там, — вдруг хрипло говорит Прохоров. — Я возьму.
На другой день она сидит во дворике возле котла с кипящей водой, помешивает варево, колени туго обтянуты шелковым пестрым платьем, Прохоров не видел этого платья прежде.
Он медленно бродит по двору, изредка поглядывая на женщину.
Она сидит, втянув голову в худые плечи.
— Слушай-ка… — Прохоров останавливается перед ней, между ними — дымящийся котел. — Вот что… — Он откашливается. — Может, работу мне какую дашь?
Она молчит.
Прохоров видит ее лицо, подрагивающее за пленкой раскаленного пара. Лицо медленно поднимается, прядь черных волос падает на глаза, рука отводит прядь в сторону, натягивает на лоб белый платок…
— А? — настаивает Прохоров.
Женщина легко вскакивает, исчезает в доме и уже через секунду стоит перед Прохоровым и протягивает ему пиалу.
— Кумыс? — уныло спрашивает он. — Хорошо. Давай.
Раздается скрип — за тополями показывается арба.
И Прохоров вдруг поспешно, словно боясь, что его поймают, ковыляет к дому. Всем телом неуклюже наваливается на костыль, расплескивает кумыс.
Лошадь втягивает арбу во двор. Хозяева повторяют свои ежедневные действия: женщина забирает у старика лошадь, он что-то говорит ей, она отвечает — коротко, одним словом.
А вечером, когда приходят прохладные сумерки, Прохоров и старик пьют чай во дворе. Женщина то исчезает в доме или за домом, то появляется во дворе — Прохоров видит, как мелькает в сумерках белое пятно ее платка.
Старик допивает чай, смотрит куда-то в одну точку и потирает больную ногу.
— Болит? — спрашивает Прохоров.
Старик кивает и, морщась, прицокивает языком — мол, так болит, так болит!..
— К непогоде, видно, — замечает Прохоров.
Старик согнутым пальцем дотрагивается до прохоровской ноги и спрашивает глазами — а твоя болит?
Прохоров смеется:
— А моя всю дорогу болит! Уж привык.
Они умолкают и некоторое время неподвижно смотрят в сумерки. Только мелькает белый платок, где-то сбоку — Прохоров старается не смотреть.
— Тихо тут у вас, — говорит Прохоров. — Непривычно… — И, подумав, начинает петь. Хриплым прерывающимся голосом:
Пчелочка золотая, ты куда летишь?
Пчелочка золотая,
ты куда летишь, летишь?
Между строчками он делает большие сиплые вдохи.
Жаль, жаль, жалко мне,
ты куда лети-и-ишь?
Жаль, жаль, жалко мне,
ты куда летишь?
Да и не поет толком — так, излагает нараспев историю про какую-то Лизаньку:
Ты, наверно, любишь Лизаньку мою!
Ты, наверно, любишь Лизаньку мою!
Жаль, жаль, жалко мне…
Песня когда-то давно сочинялась как веселая бессмыслица, так и пелась, но в прохоровском исполнении вдруг стала печальной, загадочной и безысходной.
Как у Лизы косы ниже пояса!
Как у Лизы косы ниже пояса-яса!
Жаль, жаль, жалко мне…
А белый платок у входа в дом застыл, потом подплыл к земле — женщина села на корточки и слушает.
Любить Лизу можно, цаловать нельзя!
Любить Лизу можно,
цаловать нельзя, нельзя!
Жаль, жаль, жалко мне…
Лицо женщины расслабляется, смягчается, и она вся отдается пронзительной тоске, которая слышится ей в голосе Прохорова, в трудноуловимом мотиве, непонятных словах.
Я к губам прилипну, с нею и умру!
Я к губам прилипну,
с нею и умру, умру!
Жаль, жаль, жалко мне,
с нею и умру, умру-у.
Жаль, жаль, жалко мне, с нею и умру!
Нельзя сказать, чтобы песня потрясла или захватила старика. По лицу женщины тоже трудно что-либо понять. Да и сам Прохоров не погрузился в пучину грусти — спел песню, да и все… Но тем не менее никто не двигается. Тишина. Сумерки.
Нога старика не зря болела вчера. С утра идет дождь.
Он начинается понемногу, еще когда старик, почмокивая, выезжает со двора. Но пока это просто капли — тяжелые, крупные.
К тому же очень скоро они перестают падать, и следы их, впитавшись в землю, исчезают.
Люди выносят из домов одеяла и подушки — проветрить. И только после этого начинается ливень.
Женщина мечется между домом и двором, спасая подушки. Прохоров, которому перепала наконец работа, помогает ей. И мешает, конечно, тоже. Они сталкиваются в дверях, задевают друг друга руками, плечами… Женщина не смотрит на Прохорова — подхватывает очередную полушку, мчится к дому, но все-таки следит за ним, старается обойти, держит расстояние…
Наконец, все спасено. Прохоров, вымокший до нитки, ощупывает хозяйское имущество.
— Сухие! — смеется он, — Видела, как сработано! Все сухое! Только мы мокрые! — И хохочет.
Женщина молча стоит посреди комнаты.
— Чего ты, — окликает Прохоров, — чего ты как неживая? Вещи ведь тебе спасли. Радуйся.
Но она, видно, радоваться не умеет. Тогда и Прохоров перестает веселиться — не шут ведь гороховый, в одиночку хохотать.
— Ну что же ты такая, — расстроенно говорит ои и делает шаг к женщине. — Да подожди, куда ты сразу бежать, под дождь, что ли, побежишь?.. — Он придерживает ее за плечо. — Смотри, ты же мокрая вся… Ты платок сними… сними…
Женщина не двигается, и тогда Прохоров сам снимает с нее платок.
— Ну вот… и волосы мокрые… — Он проводит ладонью по ее волосам и замирает — так и держит в руках голову женщины, ее лицо…
— Я за тобой который день смотрю.
И вижу… все вижу… понимаешь меня?.. Ты обмануть норовишь, мол, муж умер и сама умерла… А — врешь. Сама себя за нос водишь. Я улыбку твою видел… ты знаешь, какая была, когда улыбалась?.. Не знаешь… никто не знает… я один знаю…
Он сжимает ее плечи, спину, губами прикасается к ее лицу.
Льет дождь.
— Бедная ты моя, бедная…
Льет дождь. Избивает пустынную землю.
— Бедная…
Льет дождь. Избивает пустынную землю. Трясет тополиные листья.
— Маленькая…
И долго льет дождь. Долго…
А потом она стоит во дворе. Дождя больше нет. Только воспоминание о дожде в рассеянном серо-синем свете, который лег на землю.
Прохоров медленно подходит к женщине, останавливается за ее спиной.
— Не холодно? — спрашивает и видит, как она вздрагивает. — Милая ты моя, милая… А можешь улыбнуться, а? — Прохоров сам улыбается. — Я тебя прошу — улыбнись.