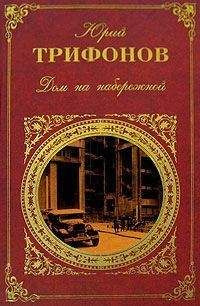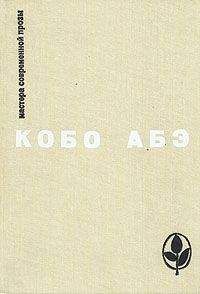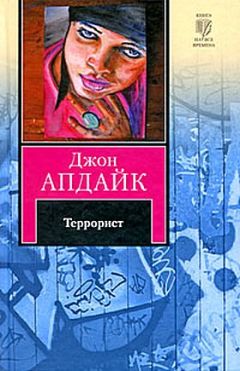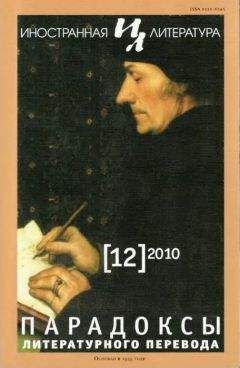И тогда она — улыбается. Легко, ясно. И одновременно с этим слезы бегут по ее лицу — тоже легко… Она всхлипывает, улыбаясь, и — говорит. Сильным высоким голосом, торопливо, волнуясь. И незнакомые слова чужого языка сливаются в мелодию и становятся вдруг понятными Прохорову, пронзительными и прекрасными. Женщина будто бы жалуется, рассказывает о чем-то печальном, но постепенно радость и нежность побеждают печаль, и она продолжает говорить — теперь уже несомненно о любви, о Прохорове, о том, как он появился и что она почувствовала, и как долго ждала его…
Вглядываясь в ее лицо, Прохоров слушает. Слушают небо, сумерки, земля, выжженная до горизонта.
…Арба скрипом возвещает о появлении старика.
Женщина привычно подходит к лошади, привычно забирает поводья у старика, совершает обыденные движения, к которым давно привыкли и она, и старик. Но лицо ее — неузнаваемо: оно открыто, ясно, совсем другое лицо.
И старик замечает это. Он взглядывает на Прохорова. Молча слезает с арбы. И, проходя мимо Прохорова, еще раз на секунду приподнимает тяжелые веки. А потом скрывается в доме.
Ночью Прохоров не спит. Что-то беспокоит его. Он поворачивает голову и замечает глаза старика, которые следят за ним.
Прохоров отворачивается. Но старик по-прежнему неотрывно смотрит на него.
Прохоров резко садится и, застонав, хватается за больную ногу.
— Старик!
Тишина.
— Старик, послушай! — зовет Прохоров.
Старик лежит с закрытыми глазами. Ровное дыхание. Тишина.
Утром, с покрасневшими от бессонной ночи глазами, Прохоров выходит во двор и сразу видит ее. Она стоит возле арбы и испуганно смотрит наверх — на плоскую крышу, где старик сам ворошит сено… Заметив Прохорова, она исчезает…
Старик продолжает свою работу — сосредоточенно, никуда не глядя, словно во всей вселенной существуют только эта крыша и он.
Женщина приводит лошадь, чтобы запрячь ее в арбу…
И тогда старик произносит одно слово — негромко, кидает его в воздух.
Женщина замирает. Опускает руки. Стоит так посреди двора.
Прохоров не выдерживает и уходит в дом.
… В полутьме ковыляет по комнате, прислушивается к звукам во дворе. Там — тишина.
Наконец появляется старик. Прохоров выжидающе смотрит на него. Напрасно — старик не замечает и Прохорова…
В комнату проскальзывает женщина — ставит на стол две пиалы с чаем, кладет две лепешки, отступает в свой угол.
Старик молча достает две другие пиалы, сам наливает в них чай. Садится и, прикрыв глаза, пьет — маленькими глотками.
Прохоров стоит перед ним, ждет чего-то. Но старик никого не видит, и опять вселенная замкнулась на нем и его чае.
Тогда Прохоров берет вторую пиалу, залпом выпивает ее содержимое, со стуком ставит на стол. Запихивает в рот половину лепешки. Старик спокоен и неподвижен.
Прохоров хватает другую пиалу — одну из тех, что принесла женщина, — выпивает, грохает на стол и ее. Старик спокоен и неподвижен. Не присаживаясь к столу, Прохоров выпивает третью порцию чая; пустая пиала, не удержавшись, скатывается на пол. Старик открывает глаза, поднимает ее, ставит на стол и — уходит.
Женщина бесшумно идет за ним. Сквозь открытую дверь Прохоров видит, как она застывает на пороге, бессильно опустив руки, как во дворе старик сам запрягает лошадь в арбу.
— Сволочь… — стонет Прохоров. — Убью…
И тут же умолкает и еще раз хрипло стонет — кого убьешь? за что? кто ты здесь?.. Скрипит арба. Старик уезжает,
Прохоров бросается к женщине — к сжавшимся плечам, бессильным рукам.
— Стой! — кричит он. — Не убегай ты, Христа ради!
Рывком прижимает ее к себе, целует замкнувшееся уже, коричневое лицо.
— Вот что… — глухо говорит он. — Собирайся.»
И опять умолкает, стискивает зубы — куда?! куда собирайся? куда ты ее повезешь? в теплушку посадишь?
Обнявшись, они стоят на пороге дома.
— После войны я вернусь… я за тобой приеду и…
А ты доживешь до победы? довоюешь? Он целует ее плечи, голову в платке, мучительная гримаса не сходит с его лица.
— Я с тобой… я с тобой… — повторяет он. — Тебя никто не тронет, я с тобой… У нас еще семь дней, я считал…
А потом? что будет потом? что будет с ней?»
— Что же с тобой будет?.. Это он из-за меня?.. Из-за меня?.. Из-за меня…
Они оба молчат. Обнимают друг друга — в последний раз.
Как он выпустил ее, как отошел, взял вещмешок и оглянулся напоследок — этого Прохоров не помнит. И старается не думать об этом теперь, когда идет по степи. И еще старается — не оглянуться больше.
На секунду он останавливается… вот сейчас повернется…
— А ну пошел! — приказывает сам себе.
Шаг, другой… еще много шагов.
И уже далеко в степи, когда исчезает из виду аул, его догоняет скрипящая арба. Старик останавливает лошадь.
Выжженная земля. Два человека посреди нее. Смотрят друг на друга. Молчат.
Если бы Прохоров мог разлепить губы, разжать челюсти, он бы сказал старику: как же я ненавижу тебя, старик! ты жесток и глух, ненавижу…
А старик ответил бы ему: да ведь и я тебя ненавижу. Эта женщина — все, что осталось мне от сына, он любил ее, он прикасался к ней, ты пришел и все зачеркнул…
— Но ведь он умер, — возразил бы Прохоров, — а она жива… и я стою перед тобой — живой… и мне больно.
— Я понимаю, — согласился бы старик, — но мне тоже больно. Понимаешь?
Прохоров помедлил бы секунду…
— Понимаю.
— Тогда садись, я довезу тебя до станции… больше я ничего не могу для тебя сделать.
…Прохоров кладет мешок на дно арбы, залезает сам, и старик трогает лошадь.
Они едут по пустынной выжженной земле. Покачивается спина старика. Белое выцветшее небо висит над ними. Как несколько дней назад. Но только сейчас это — дорога обратно.
Лошадь тянет арбу все дальше от аула. Земля вползает под скрипящее колесо.
И вслед Прохорову летит голос женщины — взволнованный, нежный… Она говорит — о любви, о том, как долго ждала его…
Лошадь тянет арбу все дальше и дальше — к горизонту, из-за которого встает далекий гул — вой, взрывы, свист пуль…
Женщина говорит о любви… Вырастает, крепнет голос войны… Едет по степи рядовой Прохоров… И два голоса устремляются к нему, соединяются в нем, чтобы навсегда пронзить его жизнь любовью и болью, счастьем и войною, улыбкой женщины и, может быть, смертью.