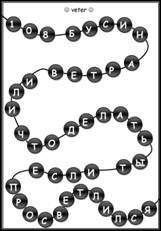– И как ты отнесся?
– К его смерти? Хм… Не знаю. Думаю, странно. Да, я плакал и все такое, но меня не хотели пускать в школу, а это меня беспокоило, потому что я не любил пропускать уроки, – представляешь, каким маленьким холодным зубрилой я был. Честно говоря, больше я расстраивался из-за мамы, потому что она действительно любила отца, и было ей в то время… тридцать три, что ли, и ни с кем, кроме папы, она не спала, ни до, ни после, насколько мне известно, и переносила она его смерть очень, очень тяжело. Да, пока вокруг были люди, мама чувствовала себя нормально, и первые две недели в доме было полно народу – всякие викарии, папины приятели, мои бабушки, тетушки и дядюшки, – так что маме и времени-то расстраиваться не оставалось, потому что ей приходилось бесконечно резать бутерброды, заваривать чай и разбирать раскладушки для этих странных кузенов из Ирландии, которых мы никогда раньше не видели. Но через пару недель они стали рассасываться, и мы с мамой остались вдвоем. И вот тогда наступили самые тяжелые времена, когда все успокоилось и люди оставили нас одних. Такая странная компания – мальчик-подросток и его мама. Я имею в виду, сильно бросалось в глаза, что кто-то… кого-то не хватает. А еще, оглядываясь назад, должен сказать, что с мамой я мог быть и поласковее – сидеть с ней и все такое. Но я ужасно бесился, что мне приходится каждый вечер сидеть в гостиной и наблюдать, как она смотрит «Даллас» или еще что-нибудь, а потом вдруг начинает заливаться слезами. В этом возрасте такая вещь, как горе, она… просто смущает. Что я должен был делать? Обнять? Сказать что-нибудь? Что полагалось говорить – мне, двенадцатилетнему мальчику? Поэтому я начал недолюбливать ее, странно и ужасно. Я старался избегать ее. Из школы шел прямо в библиотеку, из библиотеки – в свою комнату, делать уроки, и мне вечно не хватало домашних заданий. Боже, какая жуть!
– А как к тебе относились в школе?
– Ну, с этим все было нормально. Сострадание нелегко дается двенадцатилетним мальчишкам, по крайней мере в моей школе, да и к чему оно им? Некоторые пытались, но было ясно, что притворяются. Кроме того – и это действительно постыдно, – в то время меня не волновало, что умер близкий мне человек, мой папа, просто упал замертво в возрасте сорока одного года, и не волновало, как чувствует себя моя мама, а волновало то, как это отразится на мне. Как это называется? Солипсизм, солецизм или как? Солецизм. Хотя, думаю, из-за этого меня заметили, и это было ужасно: такая жуткая, сентиментальная слава, знаешь, мальчик-у-которого-умер-папа, то есть многие девчонки, которые раньше с тобой никогда не разговаривали, подходят к тебе, предлагают шоколадку и гладят по спине. Конечно же, меня и поклевали изрядно, помню, пара мальчишек постоянно кричали мне вслед «сирота инкубаторская» и еще что-то в этом роде, а это даже не остроумно, потому что мама-то у меня была. Был один парень, Спенсер, который почему-то решил взять надо мной шефство, и это помогло. Все боялись Спенсера. И правильно делали, потому что он еще тем ублюдком был, этот Спенсер…
– У тебя есть его фотография?
– Спенсера? Ах, папы… Нет, в бумажнике не ношу. А что, думаешь, надо?
– Вовсе нет.
– У меня дома есть. Если придешь ко мне – увидишь. Необязательно сегодня вечером, но, знаешь, как-нибудь…
– Думаешь о нем?
– Ага, конечно. Постоянно. Но это тяжело, потому что мы никогда не знали друг друга. По крайней мере, как двое взрослых.
– Я уверена, он бы любил тебя.
– Ты так думаешь?
– Конечно. А ты разве нет?
– Не уверен. Честно говоря, мне кажется, он бы посчитал меня немного странным.
– Он бы гордился тобой.
– Почему?
– Есть немало поводов. Университет. Звезда команды в интеллектуальной викторине, по телику покажут и все такое…
– Может быть. Единственная вещь, о которой я по-прежнему постоянно думаю – сам не знаю почему, потому что это нерационально, потому что даже формально это не их вина, – но мне хотелось бы встретиться с людьми, на которых он работал, с людьми, которые делали бабки на том, что заставляли его так впахивать, потому что они – суки. Извини, вырвалось. Я не знаю, как их зовут и где они сейчас, наверное, на какой-нибудь охрененной вилле в Португалии или еще где, и я не знаю, что сказал бы им при встрече, потому что они не делали ничего плохого, просто вели свой бизнес, просто получали прибыль, и папа всегда мог бы уйти, раз он так это все ненавидел, сесть на велик и поискать что-нибудь получше, и мог бы, наверное, приходить домой пораньше, даже если бы он был продавцом в цветочном магазине, или учителем в начальной школе, или еще кем-нибудь, и это была не преступная халатность, не авария на шахте, не крушение рыболовецкого судна, он был просто торговым представителем, но ведь это неправильно – так ненавидеть свою работу, и, думаю, эти люди, которые заставляли его так упахиваться, они – форменные суки, и я ненавижу их, каждый день, кем бы они ни были, за то что они… ну ладно. Извини, я отлучусь на минутку. Мне нужно выйти в туалет.
В о п р о с: Что выделяет и проводит лакримальная железа и лакримальный канал соответственно?
О т в е т: Слезы.
В конце концов я даже порадовался, что мы сели так близко к туалету.
Сижу здесь уже некоторое время. Наверное, слишком долго. Не хочется, чтобы она подумала, что у меня понос или еще что-нибудь, но и не хочу, чтобы Алиса увидела, как я плачу. Беспрерывное всхлипывание в качестве метода обольщения – это уже слишком. Наверное, она подумает, что я плакса. Стоит, наверное, за дверью и качает головой, сейчас расплатится по счету и побежит в свою общагу, делиться новостью с Эрин: «Боже, ты ни за что не поверишь, что за вечер у меня был. Он всего лишь один из плаксивых мальчиков…»
В дверь кабинки постучали, и я сразу подумал, что это Луиджи пришел проверить, не дал ли я деру через пожарный выход, но тут голос спросил:
– Брайан, с тобой все в порядке?
– О, Алиса, это ты!
– Как ты там?
– Да со мной все нормально, все нормально!
– Не хочешь открыть дверь, дорогой?
О боже, она хочет войти ко мне в кабинку туалета…
– Открой дверь, милый…
– Со мной на самом деле все в порядке, я через минуту.
Постойте-ка – «милый»?
– О’кей. Выходи, пожалуйста, я тебя жду, ладно?
– Через две минуты! – кричу я и, когда она уже уходит, добавляю: – Иди закажи десерт, если хочешь!
И она уходит. Я жду какое-то время, затем выхожу из кабинки и смотрюсь в зеркало. Не так уж и плохо, как я думал, – глаза немного покраснели, из носа больше ничего не течет; я поправляю бабочку, приглаживаю челку, застегиваю подтяжки и возвращаюсь на место, слегка наклонив голову, чтобы Луиджи не увидел меня. Когда я подхожу к столу, Алиса встает и удивительно нежно и крепко обнимает меня, прижимается своей щекой к моей. Я не знаю, что делать, поэтому тоже обнимаю ее и слегка подаюсь вперед, делая поправку на пышную юбку, – одна рука на сером атласе, одна у Алисы на спине, на ее прекрасной спине, там, где заканчивается атлас и начинается плоть. Она шепчет мне в ухо: «Ты такой классный парень», и мне кажется, что я вот-вот снова разревусь, и не потому, что я такой классный парень, а потому, что я отвратительный, офигенно тупой, долбаный говнюк, поэтому я крепко зажмуриваюсь, и мы какое-то время так и стоим. Когда я снова открываю глаза, то вижу, что Луиджи смотрит на меня, затем украдкой подмигивает мне и показывает поднятый вверх большой палец. Не знаю, как реагировать на это, поэтому тоже показываю ему поднятый вверх большой палец и тут же вновь впадаю в отчаяние, потому что не совсем понимаю, что, собственно, я одобряю таким жестом.
Вскоре мои объятия ослабевают, и Алиса тоже опускает руки, затем улыбается мне, но края ее губ опущены – такая полная жалости улыбка, которой одаривают мамаши своих ревущих малышей в рекламных роликах. Я начинаю чувствовать себя не в своей тарелке, поэтому говорю:
– Извини за все это. Обычно я начинаю плакать гораздо позже вечером.
– Ну что, пойдем?
Но мне еще не хочется идти.
– Ты не хочешь десерта? Или кофе, или еще чего-нибудь?
– Нет, спасибо.
– Здесь есть профитроли? Смерть от шоколада?..
– Нет, спасибо, я объелась. – Откуда-то из складок своей пышной юбки она извлекает самую крошечную в мире сумочку и собирается открыть ее.
– Эй, я плачу, – говорю я.
И я оплачиваю счет, который оказывается вполне разумным благодаря моему полному психическому срыву, заменившему десерт, и мы выходим на улицу.
По дороге к ее общаге мы меняем тему разговора и говорим о книгах; как оба ненавидим Д. Г. Лоуренса и какой из романов Томаса Гарди мы предпочитаем: я – «Джуд Незаметный», она – «Вдали от обезумевшей толпы». Стоит тихий ноябрьский вечер, и улицы сырые, хоть и не было дождя. Алиса предлагает сделать кружок, чтобы полюбоваться прекрасным видом, поэтому мы топаем на вершину холма, возвышающегося над городом, тяжело дыша от напряжения и разговора, который не затихает ни на мгновение. Шум машин на улицах становится все тише, и единственными звуками, кроме наших голосов, остаются свист ветра в ветвях деревьев и шуршание атласного бального платья Алисы. На половине пути к вершине холма она берет меня за руку и немного сжимает ее, а затем кладет голову мне на плечо. Последним, кто так брал меня за руку, была моя мама, когда мы вместе шли домой после «Очарованных Богом» со мной в роли Иисуса. Конечно же, тогда она не могла не быть под сильным впечатлением от моего распятия, но до сих пор помню, какие странные чувства это у меня вызвало: отчасти гордость, отчасти смущение, как будто я был ее верный солдатик или типа того. То, как взяла меня за руку Алиса, выглядит не менее застенчивым жестом, словно она позаимствовала его из телевизионной костюмированной драмы, но это тоже приятно, мне сразу становится теплее, и я чувствую себя на добрых два дюйма выше.