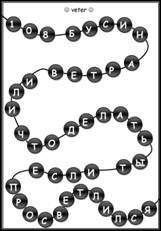– Пожалуйста, не иди на компромисс из-за моего присутствия… – (Алиса знает, что я тороплю события, и сухо улыбается.) – Ничего, я справлюсь.
– Хммм. Теперь я в этом не уверена… – Алиса облизывает кончик пальца и переворачивает страницу книги.
На завтрак у нас тосты, сделанные из хлеба домашней выпечки, который по цвету, весу, плотности и вкусу напоминает тяжелый суглинок. И в кухне вещает Четвертый канал радио. Насколько я понял, оно играет в каждой комнате, и его, видимо, невозможно выключить, как экраны телевизоров в романе «1984». Мы жуем, слушаем радио и жуем, причем Алиса не отрывается от книги. Я уже чувствую себя несчастным. Отчасти из-за того, что я первый человек, которого назвали лохом с 1971 года, но в основном моя грусть вызвана упоминанием об отце. Как это она могла «забыть». И я ненавижу то, с каким видом я рассказываю о нем другим людям. Уверен, папа был бы на седьмом небе от счастья, если бы знал, какая судьба его ждет: родной сын будет использовать его как материал для набора дерьмовых скользких острот или проникнутых жалостью к себе пьяных монологов. Да, охота на настоящего меня как-то не заладилась, к тому же я еще и зубы не почистил.
Затем мы выходим на прогулку под снегом. Сельские пейзажи Восточной Англии нельзя назвать особенно живописными: на мой взгляд, они знаменательны тем, что дают представление о жизни после атомной войны. Вид вокруг не меняется, сколько ни иди, – немного сбивает с толку, но мне нравится такое постоянство. К тому же это так освежает – выйти за пределы вещания Четвертого канала радио. Алиса берет меня за руку, и я почти забываю о том, что снег гробит мои новые высокие замшевые ботинки.
Поступив в университет, я заметил, что есть пять основных тем, которые все жаждут обсудить со мной: 1) мои оценки на выпускном экзамене; 2) мои нервные срывы / нарушение режима питания; 3) размер моей стипендии; 4) почему я на самом деле расслабился и не поступил в Оксбридж; 5) мои любимые книжки, – и вот эту последнюю тему мы сейчас освещаем.
– На вершине хит-парада для меня всегда была книга «Дневник Анны Франк». Когда я была подростком, я очень хотела стать Анной Франк. Конечно же, мне не хотелось такого конца, но импонировала идея вести простую жизнь в мансарде, читать книги, вести дневник, влюбиться в бледного ранимого еврейского мальчика – соседа по мансарде. Звучит немного извращенно, правда?
– Есть немного.
– Думаю, это просто такой этап в жизни каждой девочки, как порезать вены, или проблеваться, или испытать лесбийскую любовь.
– Лесбийскую любовь? – невольно переспрашиваю я почти фальцетом.
– Ну, этим в большей или меньшей степени нужно было заниматься в интернате. Это был один из обязательных предметов: лесбийская любовь, французский и нетбол [61].
– А ты что… делала?
– И тебе так интересно знать? – (Конечно же да.) – На самом деле ничего такого. Считай, только пальцем ноги окунулась.
– Может, это было как раз неправильно! – (Она устало улыбается.) – Извини. Так… что же произошло?
– Думаю, меня это не особо проняло. Мне всегда слишком нравился секс с мужчинами. Не хватало проникновения… – (Мы проходим еще немного.) – А ты как?
– Я? Мне тоже не хватало проникновения.
– Я стараюсь говорить серьезно, Брайан! – Алиса хлопает меня по руке своей рукавицей. – Ты тоже пробовал?
– Пробовал что?
– Думаю, ты занимался сексом с мужчинами.
– Нет!
– Правда?
– Никогда! С чего ты взяла?
– Просто подумала, что пробовал.
– Думаешь, я женоподобный? – спрашиваю я. Фальцет вернулся.
– Нет, не женоподобный. Кроме того, женственность – еще не показатель гомосексуализма…
– Конечно же нет.
– …да и ничего плохого в этом нет.
– Нет, конечно нет. Просто ты говоришь как один из моих школьных товарищей, вот и все.
– По-моему, леди слишком много обещает [62].
Сменим тему. Я готов вернуться к разговору о лесбийской любви, но затем смутно вспоминаю какие-то слова Алисы о том, что она резала себе вены. Возможно, надо развить эту тему.
– А как насчет… причинения вреда себе?
– Какого вреда?
– Ты говорила, что резалась?
– О, всего несколько раз. Как это называется, крик – просьба о помощи. Или, точнее, крик – привлечение внимания. В школе у меня случались депрессии, чувствовала себя немного одинокой, вот и все.
– Я поражен, – только и остается признать мне.
– Правда? И что могло тебя удивить?
– Дело в том, что я даже представить не могу, что могло вызвать твою депрессию.
– Тебе пора выкинуть из головы мысль о том, что я золотая девочка, Брайан. Я вовсе не такая.
Но этим вечером она действительно прекрасна.
На обратном пути с прогулки мы устраиваем небольшую веселую перестрелку снежками на лужайке перед домом, которая отличается от прошлых игр тем, что никто не засовывает в снежки собачье дерьмо или битое стекло. Это даже не сражение снежками как таковое, а просто мягкая чувственная потасовка, такое намеренное валяние дурака, которое так и просится на камеру, причем в идеальном варианте – на черно-белую пленку. Затем мы входим в дом и садимся на диван у огня обсохнуть, и Алиса ставит свои любимые записи – в основном Рики Ли Джонс, «Led Zeppelin», Донован и Боб Дилан, – хотя Алисе исполнилось шестнадцать в 1982 году, в ней определенно есть что-то от 1971 года. Я смотрю, как она скачет под «Crosstown Traffic» Джими Хендрикса, затем выдыхается и устает менять диски каждые три минуты, поэтому ставит старую трескучую долгоиграющую пластинку Эллы Фицджеральд, и мы ложимся на диван и читаем книги, время от времени обмениваясь взглядами, совсем как Майкл Йорк и Лайза Миннелли в «Кабаре», и говорим, только если нам того хочется. Чудесным образом почти за весь вечер мне удается не сказать ничего глупого, претенциозного, занудного, несмешного или вызывающего жалость к себе; я ничего не разбил и не пролил, никому не перемывал косточки, не хныкал, не стонал, не отбрасывал волосы назад и не тер лицо во время разговора.
На самом деле я сегодня лучший человек, каким только способен быть, и если вы влюбитесь в этого человека с первого взгляда, то наверняка будете им любоваться.
Потом, примерно в четыре часа, Алиса поворачивается на бок, укладывается головой на мои колени и засыпает. По крайней мере, в этот момент – и это кажется чистой правдой – она абсолютно и всецело совершенна. Мы слушаем «Blue», пятую песню на второй стороне – «последний раз я виделась с Ричардом в Детройте в шестьдесят восьмом, / и он сказал мне, что все романтики сталкиваются с жизнью лицом / с кем-то циничным, пьяным и скучным в кафе пустом…», – и когда песня заканчивается, в комнате воцаряется тишина, нарушаемая лишь треском дров, горящих в камине. Я сижу совершенно неподвижно и смотрю, как спит Алиса. Ее губы слегка приоткрыты, и я чувствую ее теплое дыхание на своем бедре, потом обнаруживаю, что неотрывно смотрю на шрам, слегка выделяющийся на ее нижней губе – белый на красном, – и меня охватывает неодолимое желание провести по нему большим пальцем, но я не хочу будить ее, поэтому просто смотрю на нее, смотрю, смотрю, смотрю… В конце концов мне все-таки приходится ее разбудить, потому что я начинаю волноваться, как бы тяжесть и тепло ее головы на моем колене не перевозбудили меня (надеюсь, вы понимаете, о чем я). Давайте заглянем правде в глаза: никто не хочет просыпаться именно от этого. Не с этим в ухе.
Потом, представьте себе, все становится еще лучше. Родители Алисы вечером идут в гости, покушать еще немножко овощей на чьей-то перестроенной мельнице в Саусволде, поэтому в доме остаемся только мы с Алисой. Когда мы стоим на кухне и пьем джин с тоником из огромных бокалов, я – стыдно признаться – увлекаюсь фантазиями о том, что мы живем здесь вместе. Мы выключаем свет во всем доме и играем в скребл при свечах, с трудом различая буквы, и я, кстати, выигрываю, но скромно и изящно. Совершенно случайно слова «опьянение» и «изумление» попадают на клетки, утраивающие счет.
На ужин мы едим неочищенный рис, поджаренный в раскаленном масле, который имеет такой вид и вкус, словно мы пожарили в котелке содержимое совка для пыли, но это блюдо вполне съедобно, если как следует полить его соевым соусом. Кроме того, к моменту трапезы мы уже порядочно набрались и говорим, не слушая друг друга, смеемся и танцуем в гостиной под старые песни Нины Симон, потом устраиваем состязание – кто дальше прокатится в носках по лакированному деревянному полу. Затем, когда мы, хихикая, падаем на пол, Алиса вдруг берет меня за руку, игриво улыбается и говорит:
– Хочешь пойти наверх?
У меня сердце выскакивает из груди.
– Ну, смотря зачем. Что там, наверху? – спрашиваю я, пьяный и изумленный.
– Пошли со мной – увидишь. – И она на четвереньках карабкается вверх по лестнице, оборачивается и кричит: – В твоей спальне, через две минуты – и принеси вино!