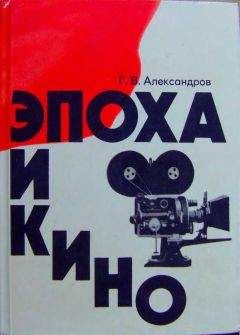— Худо, Шериф, — Мещеряков ласково потрепал собаку по холке. — Хоть в петлю полезай.
Шериф сочувственно глядел в глаза есаулу.
Пасмурным осенним днем Дроздов и Важин прогуливались по главной улице Воскресенска. Дроздов равнодушно разглядывал пестрые вывески всех мыслимых расцветок и фасонов.
— Тоска у вас, — вздохнул он, оглядывая встречных женщин.
— Освоишься, — беспечно успокоил его Важин.
Навстречу промаршировали строем человек двадцать рабочих с кирками и лопатами па плечах. Впереди двое парнишек гордо несли плакат: «Все па восстановление электростанции!».
У мастерской «Шляпы. Парижские моды» Дроздов остановился.
Возле стола с деревянными болванами и фетровыми колпаками сидела Нина. Она кроила кусок фетра, вполуха слушая Алмазова, который, прижав к груди ладони, что-то патетически вещал.
— Вот эта, пожалуй, на три с плюсом тянет, — сказал Дроздов.
— Нина Петровна, артистка наша? — обиделся Важин. — На три с плюсом? Да в нее тут, считай, все подряд влюблены, только без толку!.. Ямщиков-то из-за нее…
— Однако, — усмехнулся Дроздов.
— Могу познакомить. Зайдем?
— Кавалер там у пес.
— Это Алмазов-то? Пустой человек!
— Все равно неловко.
— Можно и в клубе, — сказал Важин. — У них каждый вечер репетиция.
— А что! — оживился Дроздов.
Под вечер Дроздов вошел в свой узкий, убого обставленный гостиничный номер.
Снял и повесил на гвоздь шинель и буденовку. Зажег примус и, поставив на огонь закопченный медный кофейник, подошел к мраморному умывальнику, скинул френч и рубаху, стал умываться. В овальном зеркале виден был его загорелый мускулистый торс. На левой стороне груди багровел длинный, причудливой формы шрам..»
Вечерело. У входа в клуб, рядом с вылинявшей от непогоды афишей, извещавшей о спектакле «Сильнее смерти», висела новая: «Доклад о международном положении».
Важин и Дроздов по мраморной лестнице поднялись на второй этаж. Донеслись слова докладчика:
— Дни последнего оплота контрреволюции сочтены. Наши войска штурмом взяли Волочаевку и, освободив Хабаровск, движутся на Владивосток…
Важин приложил палец к губам и приоткрыл тяжелую резную дверь.
— Жди здесь.
Дроздов остался один. Он медленно подошел к стоящему в углу роялю и стал задумчиво вычерчивать на его пыльной крышке пять нотных линеек. Изобразил скрипичный ключ. Начал было писать ноты, но остановился и, волнуясь, робко присел на табурет, открыл крышку.
Он играл и не слышал, как за его спиной отворилась дверь и из зала вслед за Важиным высыпали участники драмкружка.
— О, боже, неужели это не сон?! — завопил Алмазов. — Я чувствую себя Лиром, которому вернули трон! Волшебный Моцарт!.. Я слышал «Турецкий марш» в Петербурге во время гастролей великого Каскетини!..
Дроздов смутился, поспешно захлопнул крышку и встал.
— Алмазов подошел, с экспрессией представился:
— Очень рад. Алмазов. Бывший артист бывших императорских театров. А ныне… руководитель драмкружка.
— Алексей, познакомься! — бесцеремонно прервал его Важин. — Гордость наша и краса — Нина Петровна!
Дроздов поклонился:
— Дроздов.
— Вы уж извините, дела, — ретировался Важин.
Разочарованный Алмазов тоже направился к выходу. За ним потянулись кружковцы. Фоне сразу опустело.
— Почему ему захотелось нас познакомить? — спросила Нина.
— Я попросил, — сказал Дроздов. — Я вас днем видел…
Нина удивленно подняла брови.
— С улицы через витрину, — объяснил Дроздов. — Вы за стеклом — как рыбка в аквариуме.
— Скорее — как белка в колесе, — вздохнула Нина. — А вы — музыкант?
— Любитель.
— Устала я от любителей… Хоть бы раз встретить человека, который что-то умеет по-настоящему.
— И мне нравятся профессионалы, — сказал Дроздов. — Но не все зависит от нас. Я вот три года клавиш не касался… А музыку люблю, сколько себя помню…
…Нина и Дроздов шли пустынной улицей, облитой неживым светом луны. Хлюпала под ногами грязь.
— Единственное мое утешение здесь — этот жалкий драматический кружок, — рассказывала Нина. — Но сейчас и он может распасться, нет актера… Послушайте, спасите нас! Сыграйте! Всего одна сцена!..
— Никогда не пробовал лицедействовать.
— А если я встану на колени?
— Ради бога, не надо! — притворно испугался Дроздов, подхватывая ее под руку. — Падать на колени — привилегия мужчин.
— Ловлю на слове! В нашей пьесе вы получите такую возможность!
— Я подумаю, — после паузы пообещал Дроздов.
Некоторое время они шли молча. Потом Нина задумчиво сказала:
— Вот вы сказали, что ваша страсть — музыка, так может быть, лучше служить революции не пулями, а искусством?..
— Дед мой был декабристом, отец — жандармским полковником, — сказал Дроздов. — Как видите, в нашей семье революции служат через поколение. Сейчас — мой черед…
— И как служится?
— Неплохо… Мне тридцать три, возраст Христа, и уже дослужился до комвзвода.
— А музы?
— Музы подождут… Если жив останусь… — сказал Дроздов.
Инна остановилась у калитки:
— Вот и пришли. Слава богу, завтра воскресенье…
— Белка сможет отдохнуть? — улыбнулся Дроздов.
— Белке туфли нужны, — вздохнула Нина. — А завтра базар. Кстати, это главное городское развлечение. Хотите взглянуть?
— А что! — заинтересовался Дроздов.
— Тогда встретимся у входа в девять, — сказала Нина,
Нина, с новыми туфлями под мышкой, Алмазов и Важин стояли у ворот рынка, рядом с хлопочущим у своего ящика уличным фотографом. «Пушкарь» целился в клеенку с намалеванным стройным джигитом в черкеске, держащим под уздцы роскошного белого коня. В дыре под папахой всадника застыла напряженная физиономия толстощекого небритого дяди с закрытыми глазами и плотно сжатыми губами.
— Спокойно, гражданин! Откройте глаза, не бойтесь! — бойко командовал фотограф. — Снимаю!
Клиент выпучил глаза и широко открыл рот.
— Рот-то зачем?! — с досадой всплеснул руками фотограф. — До чего же вы, гражданин, непонятливые…
Подошел Дроздов.
— С добрым утром, — сказал он и поклонился Нине.
— Вот, уговариваю Нину Петровну сняться, а она — никак, — пожаловался Алмазов Дроздову.
— Разве всем вместе… — Нина неуверенно взглянула на него.
— Пожалуйста, без меня, — попросил Дроздов.
— Что так?
— Нет ничего мертвее фотографий, — поморщился Дроздов. — Сегодня снялся, а завтра ты уже другой, и не лучше, а хуже. Простите.
— Да брось ты, снимемся все вместе па память! — вдруг оживился Важин, которого зажгла идея группового портрета.
Чуткий фотограф живо снял с забора клеенку с джигитом и заменил ее намалеванным на рядне зеленым броневиком, увенчанным алым стягом.
— Я тебя, товарищ Важин, и так не забуду, — улыбнулся Дроздов.
— Эх, Алексей, скучный ты человек… — разочарованно протянул Важин и покачал головой. — И новоселье зажал…
— Почему зажал? Хоть сегодня! Вечером всех прошу ко мне.
— Может быть, пока в клуб? — предложил Алмазов. — Порепетируем. Нина Петровна говорит, вы согласны.
Дроздов поскучнел, неопределенно пожал плечами.
— Завтра порепетируем, — решительно сказала Нина и повернулась к Дроздову: — Пожалуйста, проводите меня.
Нина и Дроздов стали пробираться сквозь толпу к выходу. Алмазов с тоской смотрел им вслед.
— Остынь, Алмазов, — неприязненно сказал Важин. — Не по себе дерево рубишь.
— Огня не найдется? — обратился к Алмазову сухой остроносый шатен с папиросой в руке.
Алмазов, не сводя глаз с Нины, машинально нашарил в кармане коробок со спичками, протянул остроносому:
— Возьмите, у меня еще есть.
— Благодарю. — Остроносый положил коробок в карман и исчез.
— Пошли домой, — грустно сказал Алмазов Важину.
— Я поброжу еще, — сказал Важин. — Встретимся у Дроздова.
Алмазов уныло кивнул и мимо подвод, лошадей, ящиков и корзин уныло направился к выходу.
Из-за бакалейного ларька вслед ему смотрел остроносый.
Накрапывал дождь. Нина и Дроздов стояли на кладбище возле свежей могилы.
Ни памятника, ни венка, ни имени не было на ней. Лишь маленькая фанерная табличка с номером.
— Могилка у него какая убогая… — грустно сказала Нина.
— Самоубийца, — пожал плечами Дроздов.
— Он был такой чистый, этот мальчик… — вздохнула Нина. — Таких не любят, только жалеют. А я и пожалеть не могла, выжжено во мне все… Одно только и осталось. До сих пор люблю мужа… Хоть и тяжело было с ним…
Они двинулись к воротам.
— Он никому не верил, всех считал людьми со вторым дном… — говорила Нина.