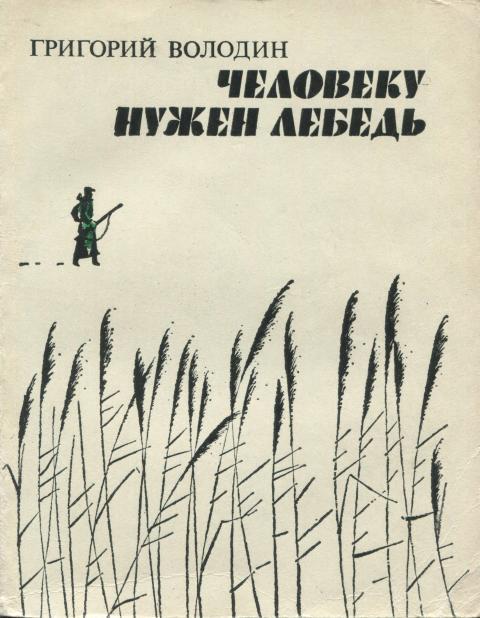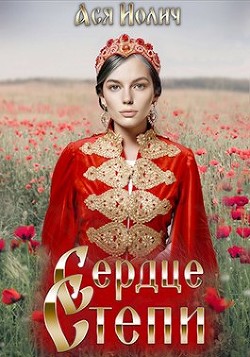в трещину, — и вот они приглашают друг друга, чтобы рассеять страх. Увидеть и услышать каменку не сложно, в заповеднике они подпускают к себе человека близко, но озеро встретить не так просто, это посчастливится только тем, кто побывает здесь после вчерашнего дождя. Вода собралась в чаше скалы и блестит озером. Весь следующий день красуется оно, а к вечеру южное солнце высушит его, и только зеленый мох, сочный, красочный, подскажет, где была эта чудесная встреча с высокогорным озером, отраженными облаками и поющей желтогрудой каменкой.
Удивительно красивы и разнообразны одуванчики. Они то ростом с мизинец, если летучее зерно их произросло на открытой площадке, и так желты, что кажутся не одуванчиками, а маленькими, упавшими на землю солнышками; а то вдруг точно лесные — на длинных стеблях жадно тянутся к свету, чтобы набрать яркости и желтизны, но велика тень от скалы, под которой они примостились, и, не достигнув солнца, зацветают, и тогда от тяжести цветка стебель гнется до самой земли, и одуванчик цветет почти на скале: бледный, чуть желтоватый, почти белый.
Чем ближе к долине, тем гуще разноцветье. Темно-фиолетовые шарики чеснока высятся над зеленым типчаком и желтой метликой; синие свечи шалфея светятся над белыми полянами люцерны; голубой синяк забрел на розовую лужайку эспарцета и словно растерялся от обилия цветов, пчел и шмелей; ярко-желтый, высокий зверобой вспыхивает то там, то здесь: у него даже бутоны ярко-желтые, маслянистые, будто около них только что трудился маляр и они еще не успели высохнуть; блестяще бел тысячелистник с седыми листьями и запахом полыни; куст чабреца весь усеян бледно-голубыми цветами и пахнет резко, особенно, запоминающе. Вся долина от западного до восточного кряжа в цвету, и кругом травы в колено, и над ними, словно оброненные великанами шапки, густые кроны шиповника — розового, белого. Если приглядишься к кустам шиповника, то почему-то кажется, что все они торопятся к подножью восточного кряжа, словно сбегаются в заросли под тень скал, а потом по одному карабкаются на кручи, проникают в расщелины, одиноко стоят на отрогах и обрывах и цветут, цветут неудержимо, прикрыв зеленые резные листья розовым или белым покрывалом.
В долине жаркая тишина, и хочется отозваться на беспрерывный призыв перепела: «Пить-пойдем! Пить-пойдем!» На голом валуне яркий и нарядный удод, кланяясь, отвечает маленькой степной серой птице: «Иду, иду». Всю дорогу к перевалу через восточный кряж сопровождают тебя эти голоса: только позади приглушеннее становится зов перепела, и кажется, что он уже ушел пить и все ближе и ближе удод — голос его громче, и от этого думается, что яркая, нарядная птица догоняет перепела, чтобы идти вместе с ним к реке.
С перевала открывается взгляду цветущая котловина. С трех сторон высятся огромные скальные нагромождения, защищая круто опускающийся склон от ветров, и даже с востока невысокая каменная гряда прикрывает котловину от суховея, от «астраханца», а неширокая балка, что побежала от родника вниз, — под тенью зарослей терна и шелковицы. Природа сделала все, чтобы оградить от пагубных ветров травы, и они буйны в цветении и ярки в красках. Словно террасами расположены цветы. У самого перевала распластались голубые поляны горного клевера и желтого тысячелистника, встречающегося только на Каменных могилах; свечи шалфея многочисленны и мощны, голубой синяк ярок и велик, а солнечно-желтый зверобой захватил большие площади, и рядом с ним белый тысячелистник бледен и невзрачен, а у самого родника цветы конского щавеля грузно возносятся над разноцветьем, словно высокие церкви над одноэтажным городком.
Солнце еще высоко, но на котловину уже пали длинные тени, и сразу похолодало. Затих непрерывный гул пчел и шмелей.
В скалах тоскливо заныли сычи, а перепела стали грустно просить: «Пить-попить», наверное не знали, как выйти в темноте к реке… Бесшумно замелькали многочисленные летучие мыши.
Вокруг высоко и грозно громоздятся горы. Тишина чуткая и звонкая, лишь тоскливо и беспрерывно ноют сычи.
Каменные могилы… Остров прошлого, сохраненный на века человеком…
С темнотой снова одолевают мысли о том, что эти скалы стоят миллионы лет. Но теперь ты знаешь этот уголок, представляешь его размеры и видишь вокруг необозримые пшеничные поля, строгие линии лесных посадок, упрямое шоссе, стремительность стальных путей, — и гордость за человека-творца окончательно побеждает неясный страх, возникший при первой встрече с этим уголком, вечно принадлежащим природе.
Тихо. Пахнет луговой мятой, шалфеем и чабрецом, — будто на сенокосе. Кажется, сейчас к твоему маленькому костерку подойдут косари.
Тишина. Скрылись во тьме горы. Замолкли сычи. Даже звезды не мерцают в небе, видимо боясь спугнуть тишину. И только через равные промежутки времени с востока наплывают синие и красные звезды — огни на крыльях пассажирских самолетов… Вокруг нетронутая тишина.
Прямо от моего окна убегала круто вверх меловая гора, заросшая дубом, ясенем, акацией, и такая она высокая, что, как ни пригибайся в комнате, не видать ее вершины. Сегодня ночью выпал снег, и она стала будто круче и выше, а стволы деревьев сразу почернели, славно их кто-то вымазал сажей. И только один дубок, тот, который на зиму листья не сбросил, еще ярче зажелтел на белом снегу, а мне показалось, что это деревцо выковано из золота. Я даже сходил к нему послушать, не звенит ли оно золотым звоном: около него было приятно постоять, как ранней весной у ствола густолистой березы в голой акациевой роще.
Другое окно моего жилища смотрело в Северский Донец, закованный льдом. За рекой — синяя осиновая роща, а за нею — темный сосновый бор.
Летом, наверное, на горе поселяются дрозды: и черный, и певчий; в осиннике — соловьи; на песчаных косах — трясогузки. Зимой их не встретишь здесь. Зато когда снег закроет поля, засыплет балки, а на опушках наметет сугробы, — около жилья человека появляется много птиц. Сперва они очень осторожны: чуть что — и вспорхнут врассыпную с шумом и криком. Если же выставить кормушки, они быстро привыкнут, и у вас появится много интересных пернатых друзей. Первой на заре прилетит синица. Сядет на столик, где насыпано всякой всячины: и конопли, и мурашек, семян подсолнечника и проса, — сядет, быстро повернет головку в ту и другую стороны и, как сорока, только тише, словно разрешения спросит:
— Чи, чи, чи?
— Можно, — скажешь ей. — И для тебя насыпал.
Потом синиц налетает много. Прыгают, скачут, клюют на выбор — кто что хочет. За ними примчатся веселой стайкой воробьи. Тогда надо немедленно пополнить запасы на столике, добавить хлебных крошек, их они любят. И, поев, они обязательно