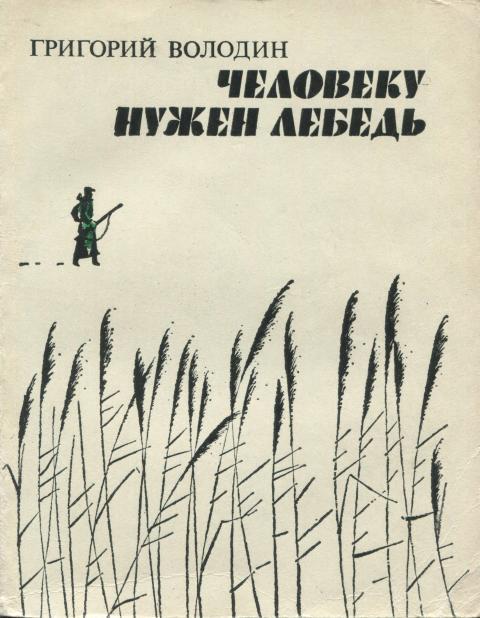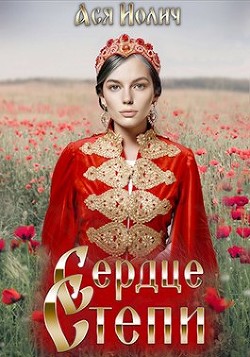не завалилась в проток?
Борис вспомнил свою поездку на белуге, подумал: все равно увидят, она не очень далеко.
— Вот там белуга. Пудов на десять. Похоже, икряная.
— О той что говорить. Там она отстоится до вздышки. Вот если бы снуленькую, — Мильшин подмигнул Борису. — Может, уговорим Бушменова, врежем белугу, а?
— Спутать с Бушменовым хочешь? — зло сощурился Борис.
Мильшин досадливо сплюнул, трусцой догнал Бушменова.
На опушке Вербного Борис оглянулся. Бушменов и Мильшин шли в море, забирая вправо от белуги. Иногда Мильшин перетаскивал сазанов в протоки. На стане Борис принялся варить уху.
Вдруг в море прогремели два дуплета. Стреляли на протоке, где плавала белуга. Бочаров выбежал на опушку, вскинул бинокль.
Бушменов рубил топором белугу. На этот раз от выстрелов пали не лебеди, погибла белуга. И погибла от руки браконьера, которому властью даны права самому обезвреживать хищников. Если бы перед Борисом был простой браконьер, знал бы, как поступить. А тут особый случай. Бушменов умеет выходить сухим из воды. Умеет выставить белое черным, а черное белым; делать виноватым каждого, кто уличит его самого в преступлении.
Летят, летят высоко лебеди. Глядит Бочаров на них с тоской. Такие глаза иногда бывают у человека перед смертельной схваткой. А схватка непременно будет. Летят, летят лебеди. Крылья вверх — вздох. Крылья вниз — поет флейта. Вздыхают лебеди. Что-то флейтой своей наказывают. Будто от беды заговаривают.
Конечно, белуга не лебедь, и человек Бушменов по обличью не волк. А вот почему-то егерь думает именно о лебеде. И о волке тоже думает.
Чувствуя, как натужно колотится сердце, Бочаров глубоко передохнул, спрятал бинокль в чехол.
— Так, значит, за безглазую рыбешку строчишь акты, а сам икряную белугу бьешь на плаву, стерва!
И уже совсем вывело из себя Бочарова то, что браконьеры хладнокровно продолжали свое грязное дело даже тогда, когда он оказался с ними рядом. Мильшин, тот хоть кинул короткий опасливый взгляд, а Бушменов даже не взглянул. Костлявый, нескладный, он продолжал разделывать белугу окровавленными руками. Мильшин первый не выдержал тишины.
— Приснула белужка, — елейно запричитал он. — Жалость-то какая. Пришлось добить… И что понатворилл с нашей Волгой-матушкой, с Каспием нашим. А все эти гидры, да плотины, да моря.
— Пришлось добить? — протянул Бочаров и, тяжко вдавливая сапоги в песок, сделал несколько шагов, чтобы заглянуть в потное лицо Бушменова, — Приснула на такой глуби?
Бушменов наконец выпрямился, как-то по-бабьи прикоснулся тыльной стороной ладони к пояснице, поморщился от боли.
— Ой, поясница разламывается, — сказал он таким тоном, будто мирно у себя во дворе рубил дрова. И вдруг вызверился на егеря бесцветными холодными глазами. Едва приметные, почти вылезшие брови его шевелились, морща у надбровий шелушащуюся кожу. — Сказано, приснула! Кому лучше знать: егерю или инспектору? — И опять вроде бы по-дружески посоветовал: — Занимайся-ка, Боренька, птичками. — И уже совсем ехидно спросил: — Поди, запасся мясцом? Ну, мы этого не видели и знать не хотим. Понятно? Ну, чего стоишь как истукан? Ступай себе с богом.
— Ты еще боженьку вспоминаешь?
— Борис, Владимир Кузьмич, перестаньте, — принялся увещевать Мильшин. — Зачем вы так? Белуга приснула, ну и концы в воду. Ты, Борис, захватил сумку? На, бери белужатины, дадим икры. Мирно, ладно.
— Вы у меня сами икру помечете, — Борис достал бланк акта и начал заполнять.
Бушменов подошел, чуть подтолкнул костлявым плечом:
— Куда ты нос суешь? Прищемлю! Слышь, не марай бумагу. Я ведь не подпишу. Мильшин тоже не подпишет. А без подписей куда твой акт годится?.. Вон лучше послушайся умного человека, — кивнул на Мильшина. — Правильно говорит Виктор. Остатки белужатины потом возьмешь себе. Продавать будешь — глаза закрою.
— А я вот открою на тебя глаза всем, открою! — дав выход ярости, закричал Бочаров. — Ну, подписывай акт, браконьерская морда! Подписывай, а то я из тебя душу вытрясу.
Бушменов отступил, заскорузлым, вздрагивающим пальцем отстегнул кобуру револьвера. Бочаров взвел курки.
— Что вы делаете, опомнитесь! — плаксиво закричал Мильшин. — Люди-и, помоги-и-те!
От неожиданности противники оглянулись — нигде никого. Бушменов закрыл кобуру. Борис спустил курки, закинул ружье за плечо и пригрозил:
— На этот раз боком тебе выйдет белужатина. Найду способ доказать, кто ты такой!
— Доказывай, — насмешливо протянул Бушменов. — Многие тянулись к горлу моему, — подергал клешневатыми пальцами себя за кадык, — а я их за яблочко, за самое яблочко!..
И когда Бушменов, желая подтвердить свои слова, потянулся к горлу Бочарова, тот перехватил его руку, вцепился ему в загривок и сунул его лицом в развороченное брюхо белуги. Перевернувшись через голову, Бушменов растянулся на спине. Вскочив, отер от белужьей крови лицо, потянулся к кобуре:
— Убью гада!
Мильшин кинулся к нему, обхватил его, умоляюще запричитал:
— Успокойся, Володя. Богом заклинаю, успокойся!
Борис повернулся и пошагал прочь, удерживая себя, чтобы не обернуться: а ну, как взбешенный Бушменов сейчас влепит пулю ему в спину.
— Опомнись, друг милый… Хороший ты мой, — доносился плаксивый голос Мильшина.
— Не прощу… убью, — ревел Бушменов.
Борис подходил к острову, когда они, сгибаясь под тяжелыми мешками с икрой и белужатиной, пошли к машине. Шли не напрямик, а брели полудугой к Вербному, выбирая отмели повыше, пожестче. На стане Бочаров пообедал и занялся сборами к отъезду. Заслышав шаги на тропе, приподнялся.
Увидел Бушменова, присел на лавке. Положил рядом ружье, закурил. Бушменов окинул взглядом стан и лодку, заглянул в ее носовой отсек. Шевеля тонкими мокрыми губами, молча пересчитал малосольных сазанов, предложил:
— Брось, Борис, серчать. Поцапались — и квиты. Белужатина осталась, забери. Мильшин твою долю икры дома отдаст. До охоты еще далеко, а у тебя семейка слава богу. Зарплата — все знают, егерская. — Бушменов улыбнулся: — По рукам?
— Нет.
— Не хочешь? — Бушменов приподнял лысеющие брови. Подошел к котлу, внюхался, заглянул под крышку. — Так я и знал, осетринка! Наверное, и на балычок засолил. А, что? Можно… Договорились?
Борис качнул головой.
— Что ж, Бочаров, тогда составим акт. За сазанов не хотел, может и обсохшие. А осетров что-то я не видел снулых. Ружьишком промышлял, — Бушменов быстро заполнил акт. Шагнул к снопам чакана на ямке. Отодвинул их, увидел свинину, обрадованно присвистнул: — Егерь называется! А шкурочка, наверное, во второй ямке?
— Две. Одна волчья. Волк затравил кабана, как ты белугу.
— Сказочки, егерь, рассказываешь! — издеваясь, укорил Бушменов. — Я тебя припру к стенке, будешь знать, с кем связывался. — Он повернулся к тропе, увидел мешок с сетками, засмеялся: — Совсем хорошо — ты и сеточками вооружен. Скажешь, птиц кольцевать? Теперь я тебя окольцую и флажками, как волка, обложу. Ну ты, чистюля, подписывай акт, — он ткнул исписанные бланки почти в лицо Бочарова и тут же отвел их за спину. Неожиданно его оттопыренные