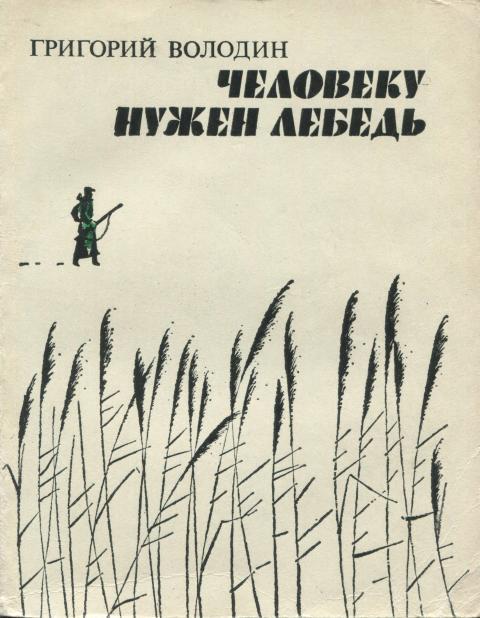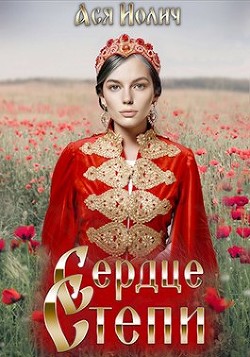ружьем вышел, весь сияет, на седьмом небе, а ты его к ответу. Человек кролика от гуся не отличит, а ты акт. А вот с Бушменовым ты жил мирно.
— Это слишком, Александр Иванович. После работы все свободное время отдаю нагрузке, а ты такое несешь.
— Не шибко она тебе в груз, эта нагрузка, — съязвил Андрейчев и вдруг замер. — Ти-ше, лебеди…
Вдали послышались посвисты лебединых крыл.
— Парус, парус прикройте, — умоляюще протянул Шиклунов. — Навалят, на нас идут.
Звуки полета лебедей нарастали. Одновременные махи метровых крыльев большой стаи рождали и гасили эти звуки разом. Вздох — и потом звуки флейты. Опять вздох — и снова флейта.
Песня росла, полнила взморье. Вот она зазвучала окрест, коснулась лунных дорог, и на них словно дрогнуло серебро монист и торжественно подзвонило флейтам. А они пели и пели. И наверное, песня долетела до звезд, потому что и в небе начало что-то свершаться, — казалось, оно тихо и звучно заколебалось.
Лебеди увидели лодку. Спокойно отворачивая, заговорили:
— Гул, гул, гул!
Словно загудели медные гулкие колокола. Загудели не набатной тревогой, а благовестом покоя. Птицы выплыли в небе на лунную просеку в синей ночи и увиделись — белыми, мощными, красивыми. Миновав лодку, успокоились. И затихли перезвоны колоколов, и, казалось, обеднело море и небо, и потускнела лунная дорога. А когда растаяли вдали добрые шорохи, смолкли напевы флейты, всем невольно стало грустно.
— Смотрел бы и слушал, — восторженно прошептал Шиклунов и повернулся к Бочарову. — Ну вот что, Борис, ты не робей, мы тебя одного не оставим. Биться будем с Бушменовым и мы. И с его компанией тоже. Голову больше прятать не будем.
— Спасибо, — скупо отозвался Борис. И после долгого молчания добавил: — Чтоб хоть еще один раз в жизни увидеть вот так лебединую стаю, я готов на все. И пусть это помнит Бушменов. Ну, поспим перед зорькой, что ли…
…На море, все облитое солнцем, не взгляни — режет глаза. Росная зелень чаканов и камышей стреляет иглами-лучами. Пролетные птицы — белые от солнечного моря, от солнечного неба, от солнечных зарослей.
Для настоящего охотника не в добыче прелесть. Разве на подворье увидишь степные и морские зори? Послушаешь лебединую ночь с колоколами и флейтами? А птицы?.. Сколько их. То в осеннем наряде, то в брачном, весеннем. Когда многое знаешь о птице, угадываешь ее по силуэту, полету или следу, каждое свидание с ней радостно.
Природа нема и однообразна лишь для того, кто сам глух к ее голосу. За кои годы такой выберется на взморье посмотреть на пролет: говорят, очень уж нарядны селезни в весеннем убранстве! Доплетется до куста, присядет, чтобы рассмотреть селезня, а на него натянет ворона, да еще и каркает с насмешкою. И станет такой утверждать, что весной летят одни вороны, а селезней лисы поели, и за это лис надо беспощадно уничтожать денно и нощно — исправлять ошибки природы. Другой в августе надумает послушать соловьев, а они в середине июля отпелись-отзвенели: не услышит — и всю жизнь повсюду будет утверждать, что при дедах соловьев было больше, а теперь совсем оскудела природа.
Сколько часов в классе и дома высидели мы, изучая моря и реки, птиц и зверей, травы и деревья! Рядом были леса, а нас учили отличать сосну от лиственницы по картинкам в книжечке. Вокруг перелетали, работали и пели птицы, а многие ни тогда, ни сейчас не отличат воробья от скворца, не говоря уже о кукушке и ястребе. Не зная трав, мы оголяли цветущие поляны, собирая ненужные букеты; осенью вырывали травы и грибы с корнями, а потом бубнили об оскудении земли. Не каждому возможно побывать в заповедниках, чтобы увидеть вепря, сохатого или зубра, но и о них мы слышали в четырех стенах, даже когда в трех шагах от школы был зоопарк. В детстве неудовлетворенное любопытство искало выхода, и сколько нас ходило с рогатками, убивая птиц, чтобы рассмотреть их оперение, разоряли гнезда, чтобы увидеть и гнездо и яйца! Мы уничтожали муравейники, избивали палками беззащитных жаб и ужей, ловили сачками бабочек, стрекоз, пчел. — все, что жило, летало, работало. Любопытство становилось привычкой избивать все живое, у некоторых — порождало жестокость.
И стали дети взрослыми. Ружья привычны, как карандаш в руках. Но ружье должно стрелять. И оно стреляет без разбору, без жалости.
Так давайте же сызмальства учить детей любить лебедя, имея в виду и березку, и ласточку, и белку, и крошечного муравья, и огромного лося.
…Хирург Андрейчев обеспокоенно выпрямился в засидке. Приложил руку козырьком, вгляделся в даль. Борис посмотрел туда же и увидел лебедей. Белыми парусами сказочных кораблей выплывали они. Шиклунов, наглухо затаиваясь в скрадке, крикнул:
— Садись!
Стая белых птиц летела безмятежно, крылья то поднимались вверх, то опускались вниз у всех одновременно. Нарастали звуки флейт, потом стали слышны подшептывания подкрылков. Дотянув до малых островков чакана у кромки воды, лебеди, медленно разворачиваясь, накрыли засидку Вакаренко. Тот неожиданно приподнялся. Птицы набатно закричали. Заторопились подняться, сломав ровные интервалы, сбились в кучу и замахали вразнобой тяжелыми крыльями. Звуки все смешались. Уходя от опасности, лебеди подались к зарослям. Проплыли над скрадком Шиклунова. Охотник не шевелился, и стая, успокаиваясь, начала выравнивать строй. Над Андрейчевым они прошли с одновременными махами и могучей песней лебединых крыл. Когда лебеди появились над Борисом, ему показалось, что потоки воздуха закачали в его засидке листья чакана. Любуясь лебедями и радуясь безопасному полету их, Борис улыбался: старания Богдана Савельича не пропадают даром — охотники даже в распрет перестают бить лебедей. На них не поднимал ружья когда-то и отец, а однажды затяжной весной натаскал полное подворье ослабевших от голода птиц и кормил их, пока они не поднялись на крыло.
И вдруг послышался голос Андрейчева:
— Стой! Сто-ой!
Бочаров приподнялся. Увидел под низкой стаей незнакомого охотника с дымящимся ружьем навскидку. Первый лебедь, самый большой и самый белый, крикнул, осел на звук только сейчас долетевшего до Бориса выстрела и замедлил полет. Стая, кучей облетая раненого, отваливала к камышам. Ее гулкие крики катились по взморью. Раненый, тяжело поднимая и опуская крылья, медленно развернулся и, с каждым взмахом набирая высоту, полетел вперед. Он летел молча. Без единого звука, словно не желая ни стоном, ни криком выдать своей слабости, а медленные крылья тоже молчали.
Вдалеке от раненого, будто прощаясь с ним, пристанывала стая.
Лебедь, поднимаясь ввысь, уходил в море. Вдали от берега, когда уже стало казаться, что лебедь оправился от раны, он вдруг не поднял крыл и белой глыбой понесся вниз. Там, где он упал, море