Между тем подходят родственники, все они хотят посмотреть на удивительных иностранцев, которые, как говорят, неожиданно появились в пустыне почти нагишом. Я насчитываю двенадцать мужчин и семь женщин. Среди них один кое-как объясняется по-английски. Лет двадцать с лишним назад он служил в иорданской армии, в так называемом арабском легионе, организованном английскими офицерами, чтобы поддержать их влияние в стране, и находившемся долгое время под их командованием. В качестве доказательства он показывает нам отвратительный шрам на ягодице, приобретенный якобы в каких-то боях. Нарочито наивно спрашиваю, не иорданец ли он. «Я бедуин, — с гордостью отвечает он, — сейчас и во веки веков». «Трудно ли пересечь границу?» «Нет, — заверяет он, — бедуины имеют право передвигаться в пределах пустыни, невзирая на границы». Вопрос, давно ли племя в Сирийской пустыне, несколько смутил моего собеседника. Оказывается, оно здесь уже много лет. Я узнаю, что имеется еще несколько племен бедуинов, стада которых состоят главным образом из верблюдов. Эти племена еще в состоянии вести кочевой образ жизни, но число таких племен сильно сокращается. Верблюды уже невыгодны как транспортное средство: их вытеснил автомобиль. Сейчас основное богатство бедуинов — овечьи стада. Но с ними невозможно передвигаться на большие расстояния. Мой собеседник рассказывает об этих изменениях с некоторой грустью, как говорят о «добрых старых временах», трудности и беды которых прикрыты романтической завесой прошлого. Речь идет, таким образом, если я правильно понял, о полукочевниках — кочевниках, переходящих к оседлости. «Есть ли племена, строящие себе дома?» Он отрицательно качает головой: «Нет, — говорит он, — хотя пытались строить, по в каменных домах жить невозможно». Беседа прерывается. Забеспокоились другие бедуины. Они хотят следить за разговором и просят переводить. Тема вызывает у всех одобрение. Нет, в домах жить невозможно. Но мне кажется, что это мнение не связано с желанием возобновить кочевье на большие расстояния. «Ходит ли кто-нибудь в школу?» — спрашиваю я. «Нет, куда же ходить?» Никто из присутствующих не умеет ни читать, ни писать. Все взоры устремляются на мужчину, который несколько смущен всеобщим вниманием. Его сын посещает в Хомсе специальную школу, организованную правительством для детей бедуинов, и еще несколько сыновей племени последовало этому примеру. Кроме того, здесь как-то однажды появился учитель, который утверждал, что его послало правительство учить их детей. Но он быстро уехал.
«Кто же вождь племени, — задаю я новый вопрос, — и существуют ли еще кровная месть и межплеменная вражда? И вмешивается ли тогда, полиция?» Мужчина становится более сдержанным. Нет, полиции здесь не увидишь. Бедуины в состоянии сами урегулировать свои дела. А кровной мести давно уже нет. Разве что случаются в племени несправедливости, и тогда некоторые из его членов расплачиваются жизнью и имуществом. Но решать эти вопросы — дело старейшин, семейных комитетов, они же выбирают шейха. Эта должность уже в течение многих поколений сохраняется в одной семье.
Разговор постепенно угасает. Моему переводчику, разумеется, не всегда удается найти нужные слова. Во время длинных пауз все молчат. Арабы мастера молчать. Только старик курит наргиле. Он и мне предложил сделать то же самое, по, чтобы избежать публичного скандала, я отказался. Петер последовал моему примеру. Другим же не пристало курить наргиле в присутствии старика. Зато почти все, в том числе женщины и мальчики — последним едва ли минуло десять лет, — курят сигареты, которые они сами скручивают на особый манер, давно испытанным способом.
Через несколько часов темы для разговора окончательно иссякли, мы выдохлись, глаза слипаются. Женщины готовят нам постель на ковре, где мы сидим. Они приносят мягкие, очень чистые одеяла и подушки. Мы ложимся, а сверху накрываемся овечьим тулупом. Вскоре все уходят, и мы остаемся одни. Брезент, который во всю длину шатра лежал на полу, приподняли свободным концом вверх и пристегнули к боковому полотнищу. Свет убавили, прикрутив лампу, и скоро наступила полная тишина. Я мгновенно засыпаю, провалившись как в бездну.
Когда я просыпаюсь в первый раз, встревоженный беспокойными снами, и медленно прихожу в себя, то вижу на стенке шатра огромную тень с рогами, как у черта. По затем я с облегчением опускаюсь на свое ложе. Громадный козел сорвался с привязи и нанес визит в теплый шатер. Вслед за этим появляется женщина и, хихикая, уводит его.
Вторично я просыпаюсь уже в пять часов. Зверски холодно. Я выхожу из палатки. Необыкновенная картина открывается мне: Утренняя заря залила пустыню золотом. Вскоре поднимается огненный шар. Три шатра отбрасывают длинные тени. В нескольких сотнях метров от меня пасется небольшое стадо верблюдов, десять или двенадцать голов. Продрогший, я возвращаюсь и забираюсь под тулуп. Только здесь еще и можно выдержать холод. Вокруг пас начинается движение. Я слышу необычный, ритмично скрипящий звук. Это дребезжит жесть. Едва я поднялся, как появляется женщина с кувшином. Она аккуратно льет мне на руки воду. Я могу умыться. Бросаю взгляд в другие помещения. Размер шатра примерно 20 метров в длину и 5 метров в глубину. Опорные стойки делят его на четыре равные части. Помещение справа от меня — «спальня». Соломенная циновка длиной в несколько метров и шириной почти в человеческий рост положена так, что образует спиралеобразный коридор, заканчивающийся в отгороженной «спальне». Я бросаю осторожный взгляд на циновку. Молодая мать возится со своим малышом. Одеяла и ковры тщательно закатаны и аккуратно сложены друг на друга. Рядом со «спальней» — кухня. Теперь я могу увидеть, как делают лепешки. Над очагом лежит старая крышка из листового гофрированного железа выпуклой поверхностью наружу, как зонт. Одной стороной на земле, другой — на камне. Женщина проворно месит тесто, придавая ему форму шара, раскатывает в тонкий пласт и ловким движением бросает его на горячую поверхность крышки. Мгновение спустя тесто становится золотистым. Женщина быстро переворачивает лепешку, и вот она уже готова, золотистая, ароматная, хрустящая.
Петер и Катрин тоже встали. Между тем готов кофе, и завтрак начинается. Сначала опять подают лабан, затем свежие лепешки. Вслед за ними передо мной ставят большую тарелку своеобразной бело-желтой массы в виде топких слоев, уложенных друг на друга, и горшок с золотистой тягучей жидкостью. Я пробую из горшка — это мед, но не могу попять, что собой представляет желто-белая влажная масса. Одна из женщин приносит горшок с кипяченым молоком, рукой снимает жирную пенку и кладет поверх лепешки на мою тарелку. Теперь мне показывают, как надо все это есть. Лепешку макают в мед, потом отрывают кусок молочной пенки, свертывают трубочкой и отправляют все это в рот. Вкус как у конфеты.
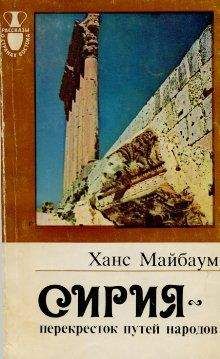

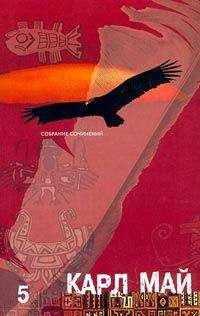
![Филип Фармер - Властелин тигр [= Владыка тигр, Бог-тигр, Властитель тигр, Лорд Тигр]](https://cdn.my-library.info/books/21569/21569.jpg)

