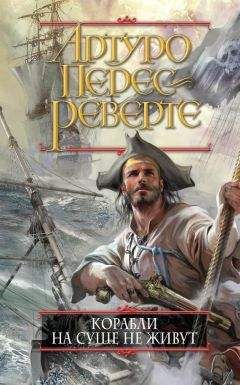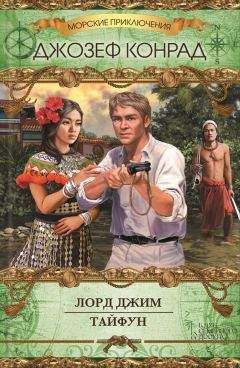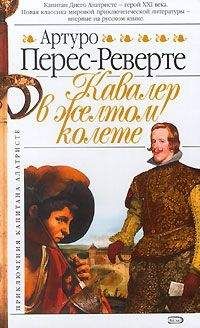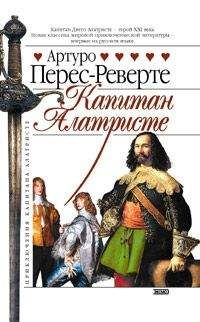Встаю, понося весь род людской. Поднимаюсь на палубу и вижу рядом другой кораблик. Береговая полоса тянется на много миль, места вроде бы хватает всем, но нет — вновь прибывшему почему-то непременно надо было притереться вплотную к моему правому борту. Это моторная яхтенка метров 9–10 длиной, довольно замызганная, а под гремящую из динамиков, как я уже докладывал, музыку на носу отплясывают три юные дамы в трусиках-танго и с сиськами наперевес. Одна беленькая и две черненькие, если точнее. А если еще точнее, то определение «дамы», может быть, и не вполне к ним применимо, поскольку от всех трех так и шибает известного рода спецификой. Поблизости Ибица, время — начало августа, и этим все сказано.
Однако дело не в гостьях: самая, как теперь выражаются, мякотка — в хозяевах. Владелец яхты стоит на шканцах, у штурвала. Лет пятидесяти, смуглый, черноволос(ат)ый и пузатый, златая цепь на шее той. Двое других принадлежат к тому же классическому иберийскому типу: в руке у каждого — пивная банка, из купальных трусов вываливается не менее пивное брюхо. Облик и ухватки типичного испанца зрелых лет, мужчины в полном соку, что называется, позволившего себе расслабиться. Типичный такой Маноло, сказавший своей благоверной: «Вот что, Маруха, мы тут с мужиками, с Пепе и Мариано, смотаемся денька на три, половим тунца в открытом море, отдохнем малость, а на обратном пути прихвачу тебя с детьми, свезу на пляж». Такую речь воображаю я себе, наблюдая, как троица, то и дело прихлебывая пива, дискокетничает наперебой с девицами, которые танцуют сами по себе и не обращают на кавалеров особого внимания. В этот миг, будто прочитав мои мысли, один принимается тереться передом об партнершину корму и кричит капитану: «Давай сюда, Маноло!» Вот ей-богу — Маноло! Я угадал. Меж тем, натужно повиливая в ритме диско, подваливает Маноло, ухватывает блондинку и с нею вместе прыгает в воду, а там сдирает с нее танги и в качестве трофея крутит ими над головой, а потом на голову же себе и надевает, а приятели одобрительно и ободрительно вопят ему с борта, а один достает фотоаппарат и щелкает его — барахтающегося с девкой на руках, с трусиками на загривке, лыбящегося во всю свою щекастую физиономию и наверняка предвкушающего, как иззавидуются коллеги, когда в сентябре он покажет им фотку. Потом в каком-нибудь ящике она непременно попадется на глаза супруге, а уж та, в зависимости от уровня его достатка, либо вчинит ему иск, либо измытарит вдрызг.
А самое замечательное, что когда Маноло выбирается из воды и — зреющей на ветке сливой — подставляет, обсыхая, нагие телеса солнечным лучам, покуда бесштанная блондинка присоединяется к подружкам и вновь начинает приплясывать, а товарищи с пивом в руках окружают его и с хохотом благодарят за доставленное удовольствие — давно так не ржали, спасибо, мол, повеселил, — я слышу, что второго зовут Пепе… Ушам своим не верю! Пепе! Вот вам крест — его зовут Пепе! Мало того — и третьего тоже: оба Пепе. И я говорю себе: невероятно, не может такого быть, слишком уж это хрестоматийная классика. Пепе и Маноло. Испания жива в веках, Испания не сдается! Тут меня — не поверите! — охватывает странная, извращенная нежность. И, в ужасе от себя самого, я улыбаюсь.
Прямо как в театре. В любом порту найдутся зеваки, вгоняющие тебя в пот. Я сижу в Аликанте, на террасе и на солнышке, наблюдая, как швартуются суда. День погожий, и все столики заняты мамашами с детьми, влюбленными парочками, супружескими парами и прочими. Официанты с ног сбиваются. И тут появляется она. Негритянка. Как принято ныне выражаться — чернокожая африканка. Все мы, здешние посетители, — белые (совсем или почти), а она, как я уже сообщил, — нет. Небелая. До такой степени не белая, что отливает синевой. Крупная, дородная, всклокоченная, весьма неряшливо одетая и с корзиной на руке. Ну и вот, говорю, она идет по террасе между столиками и просит милостыню. Почти никто не подает. Или вообще никто. И тут она разевает хайло. Как же вы мне все… — и так далее. Видала я вас всех… — и добавляет где и в чем именно. Вот вы у меня где… — и сообщает где. Мрази. Суки. Козлы. Расисты. Произносится все на безупречном испанском со столичным, вальядолидским выговором. Говорит правильней, чем я и большая часть посетителей. Тетка явно живет у нас давно или вообще здесь родилась. Знакома с классикой жанра.
И вот вам крест, самое интересное — следить за поведением почтеннейшей публики. Те, кто подальше, смотрят и слушают разиня рот, в полнейшем замешательстве, но те, кто поближе, прячут глаза, чтобы невзначай не встретиться с ней взглядами. Устремляют их в неведомую даль. А негритянка продолжает выкладывать наболевшее. Банда уродов. Свора придурков. Сукины дети. Вот где вы все у меня. Или она пришла сюда уже совсем тепленькой, размышляю я, или сбежала из дурдома. Явно с приветом. Наконец какой-то паренек, сидящий со своей девушкой, взглядывает на негритянку и говорит: «Потише нельзя ли?» Та благим матом отвечает, что она и так тиха и пусть притихнет эта погань на террасе. Белая мразь. Расисты. В этом пункте дискурса я говорю себе, что если бы человек, покрывший всех столь забористо, был белым мужчиной или пусть даже белой женщиной, он (она) давно бы уже схлопотал или, иначе выражаясь, — огреб. Как пить, что называется, дать. Но эта крикунья — чернокожая женщина. Занавес. Покажите мне того сорвиголову, который решится сказать, что у нее, мол, темные глаза.
Тем временем, видя, что бабенка не унимается, официант вспоминает о своих должностных обязанностях. Сеньора, прошу вас… Чего? Просишь?!! — вопрошает та, прибавив громкости. Мамашу свою попроси, болван!!! Пошел ты с просьбами своими. Официант озирается, смотрит на свою собеседницу, потом на нас на всех. Потом, сделавшись цвета спелого томата, исчезает из виду. А тетеха продолжает свое. Вас всех так, так, так и потом еще перетак и мамашу вашу заодно тоже и туда же. Вскоре на горизонте возникает официант в сопровождении блюстителя порядка и общественной безопасности — это классический тип с обликом Рембо, при дубинке, рации и прочих причиндалах. Девяносто килограммов полицейского рвения, сдобренного толикой такого еще не выветрившегося деревенского благодушия, что молоко в кофе сворачивается. К этому времени аудитория уже расширилась за счет прохожих на улице, остановившихся поглазеть.
Проходим, сеньора, очень вежливо говорит полицейский. Вы нарушаете. Негритянка, уперев руки в боки, пепелит его взглядом. А если не пройду? Чего ты со мной сделаешь? Дубинкой своей треснешь? Дубинкой, говорю, расист недоделанный? Засунь себе свою дубинку знаешь куда? Страж порядка оглядывает нас так же, как до этого — официант. Кажется, что слышно, как ворочаются мысли в его несчастной голове: эта шоколадка сама кого хочешь съест. Сеньора, в последний раз… Сеньора посылает его по известному адресу, предлагая заняться совершенно иным делом, причем в пассивной роли. Рембо, сглотнув, берется за дубинку у пояса. Снова оглядывает почтеннейшую публику. Снова сглатывает. То, о чем он размышляет, предстает так ясно и явно, словно он это спел, как в мюзикле. Что за напа-а-асть… Она меня сожрет. О, жалкий жребий мой… У нас в Испании, если по вине полицейского с головы чернокожего хоть волосок упадет, да еще в присутствии двухсот свидетелей, он — не волосок, а полицейский — как минимум угодит в выпуск новостей. И бедняга делает то единственное, что может: обходит скандалистку и удаляется, бубня в микрофон рации: я ноль-четвертый, прием, с очень таким профессионально сосредоточенным видом, словно просит выслать подкрепление. И переговор этот свой изображает добрых четверть часа, до тех пор, пока виновница происшествия, которой надоедает буянить в кафе, не удаляется на причал плевать в корабли.