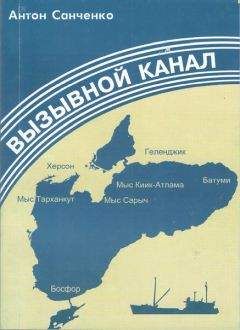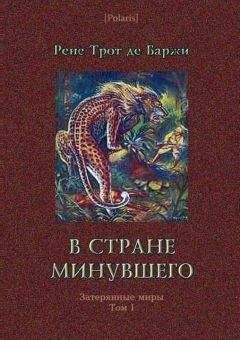— Вы уж меня спрячьте на пару дней. Как бы Дездемоной мне не стать. Да какой там платочек кружевной? Прямо на месте преступления, в гримуборной… И чего ему за столиком не сиделось? Он что думал, что меня хозяин за хореографические таланты только в варьете держит?
А тут и тойота, нам уже известная, подкатила. С мавром.
Вобщем, слово за слово, загремели мы с Вальком, опять на пару, как в госпиталь малярийный, в участок полицейский. Правильно тралмастер говорил: как филиппинцев в кабаке бить, так всегда желающих полно, а как белую наложницу из сарацинской неволи вызволить…
Сижу за решёткой, в темнице сырой…
Сидим, вернее. Тридцать нас в камере. Экономно сидим. Харчи всем — родственники носят. Только нам — сослуживцы. Валёк только вошёл, осмотрелся:
— Ну, это не керченский медвытрезвитель, — говорит.
— Жить можно.
Основательную тюрягу португалы им отгрохали. Стены — из мортиры не прошибёшь. По всему видать — форт бывший. Просто как графьям МонтеКристо почёт нам оказан. Хорошо хоть не на острове. Потом оказалось, действительно как графьям. В подземелье — там вода по нарам во время прилива гуляет и крабы ползают.
— Не жалеешь, что из-за девки уличной ещё и в тюрягу попали? — Валёк спрашивает.
— Ну, это как суд решит. Если не пожизненно, то не пожалею, пожалуй, — говорю.
— Я вот тоже сначала думал, зачем я во всё это вляпался? А потом… Я ведь её тогда ещё, на вилле Джоновой, от Джончика отбил. Даже вмазать ему пришлось. Настырный. Видишь, что не хочет с тобой девка идти, чего насиловать?
— Вобщем, я её в тот вечер на пароход забрал. Ты особо не треплись, я её у Никитича в каюте прятал, когда ВЛКСМ шастал.
— Она, дура, испугалась, когда узнала, что уже и консульство на уши поставлено. Последняя гастроль значит? Столько визу эту зарабатывать пришлось, а теперь — закроют, зарубеж ни ногой, и с работы вытурят? Что мы за занавеской железной забыли все? Нигде и слова такого-то нет: Заграница. У албанцев, может ещё.
— Я теперь думаю, да пусть закрывали бы ей визу, чёрт с ней. А тогда… Я ж тогда и не знал её совсем. Думаю, пускай сама решает. Вспомнил просто, как сам чуть в петлю не лез, когда паспорт моряка по запарке вместе с сумкой в багажнике частного карпаля одного оставил. Всех таксистов местных на уши ставил, а этот ещё и залётным каким-то, не крымским вообще, оказался. Так мне весь остаток жизни в каботаже гнить тогда не хотелось… А со стороны посмотреть: ну не к расстрелу же приговаривают. Бумажка, хоть она серпастая-молоткастая, хоть какая ещё, бумажкой и есть… Сейчас — особенно смешной трагедия эта кажется.
— Ты думаешь, эскулап этот нас с тобой пользовал за красивые глаза Ленкины? Не принято это у них. За всё — счёт выписывай. Могу себе позволить на разгул столько-то, на благотворительность столько-то, на подарок любовнице столько-то: сумма, подпись бухгалтера. Госпиталь-то хороший, не чумные бараки какие-то…
— Ленка что ли?
— Цепочка золотая.
— Ну, теперь и пожизненно пусть дают, с ежедневным выеданием печени, — говорю.
— Всё равно я — уже пять месяцев, как остыл. Зомби. Такие дела.
Долго ли, коротко ли, везут нас к Фемиде на случку.
До чего всё похоже, архитектура даже. Специально, чтоб на мозги давить всё рассчитано: колонны, потолки, коридоры бесконечные пыльные, людишки суетятся какие-то, всяк во свою дверь очереди ждёт. Букли да мантии — это уже мишура. Показуха. Как и у нас, за невзрачной дверью решается всё:
— Может адвоката желаете?
— Какой там адвокат, милай. Валяй на всю катушку.
И в переводчиках — Джончик. Один он русский язык знает во всей их молодой государственности, что ли?
— Очень не хорошо, — говорит, — что вы местный уважаемый гражданин так больно били. Господин куртмэн с пережитками колониализма очень сейчас борется. И полицейских бить и из пистолета пугать — тоже нехорошо.
А что мне, смотреть было, когда он на Валька волыну направил? Или выстрелить ему дать возможность, чтоб догадаться, что пистолетик-то — газовый? Так и объясняю. Чего там Джончик переводит, не ясно. Но машина правосудия пущена, строчит на машинке чего-то.
Открывает куртмэн свой талмуд уголовный, статью находит.
Хорошие законы, нечего сказать. По первому пункту — восемь лет крабов, по последнему — денежный штраф небольшой. От тяжести содеянного всё зависит.
Но тут дверь открывается, ещё один машинист фемиды входит, и… да Ленка, конечно. Кэп с Никитичем в коридоре ждут.
— Нашла я вам лойера, — Ленка нам подмигивает. Но грустно как-то.
Тот перед судьёй извинился за опоздание, судья к нему — с улыбочкой, свои, видать люди. И переводчицу, лойер говорит, тоже свою имею, адью, Джончик. Спасибо за помощь правосудию.
Мы-то не понимаем ничего, но оживился куртуазный мэн наш, о чём-то таком лойер-пинчера допрашивает, что Ленка аж покраснела. Это после Витькиного-то столовского обслуживания даже и лекций на тему анатомических и сексуальных различий между самцами различных рас.
— Не надо может, Ленка? — Валёк спрашивает.
— Может через консульство как-то?
Отвернулась. Не слышит. По-новой всё куртмэну переводит. Занятая какая!
— Так значит, на палубе всё происходило? На территории иностранного государства, значит? Ну, нет уже государства, а территория вот — осталась. Бывает такое в юридической практике.
А я, скотина, тогда и внимания никакого на это не обратил. Всё о крабах в подвале думаю, ревматизм невзначай подцепить переживаю. Восемь лет… Это сколько ж мне будет?
Вышли мы из кабинета, сидим в сторонке, с полицейскими калякаем. Повышение, мол, дадут теперь вам, парни, как пить дать. Вы ж, бедолаги, героически газу надышались ни за что, ни про что. А огород наш чем вам мешал?
Смотрим, кэпа с Никитичем тоже уже, как свидетелей, вызвали.
— Может и обойдётся всё, Валёк? — спрашиваю.
А Валёк мне пальцем на Джона показывает. Как Джончика отстранили из кабинета-то, так он, видать, и примчался. Ему то чего надо? Отказался ж от нас давно.
Пока в зал заседаний, пред ясны очи другого, опереточного уже, с буклями и в мантии, судьи не отвели нас и в клетку не посадили, всё мне крабы покоя не давали. А потом, пока полицейских, которые нас с Вальком скрутили, допрашивали по новой, да кэпа с Никитичем, всё мне казалось, что не со мной это. Оперетта, "Летучья мышь" а не суд. Хоть про жену и портвейн подпевай.
Допросили всех уже. Джон с настоящим куртмэном вошли, сели тоже. Смотрит на них тенор-судья, как на суфлёрскую будку, понять из знаков пытается, прерывать ему заседание, или как.