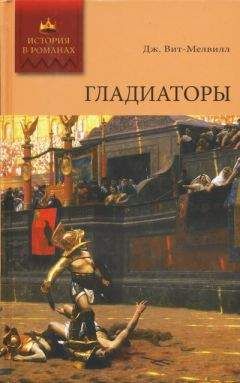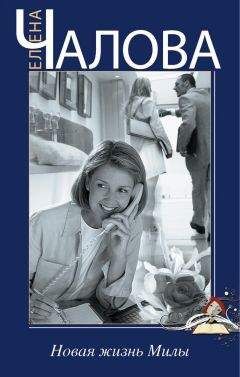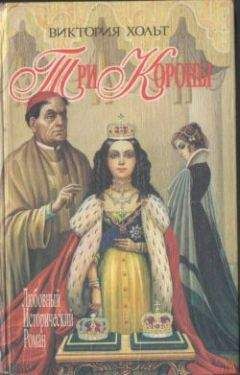— Я не покину его никогда, — говорил Эска своей бледной подруге. — Но ты, Мариамна, ты можешь теперь рассчитывать на спасение. Может быть, римляне отнесутся к тебе с уважением, если тебе удастся добраться до какого-нибудь начальника или если ты попадешь в какую-нибудь запасную когорту, кровь которой еще не разогрета зрелищем резни. Что сказал Гиппий о десятом легионе и Лицинии? Если только ты в состоянии будешь коснуться края его одежды, ты будешь спасена ради меня.
— И ты хочешь, чтобы я оставила тебя умирать здесь! — отвечала Мариамна. — О, Эска, какой тогда будет смысл в моей жизни? И разве у нас не хватило веры в эту ужасную ночь или не хватит впереди? Я знаю Того, Кто стоит за меня. Я не забыла того, чему научил меня лежащий здесь пораженный и бездыханный родственник. Смотри, Эска, он открывает глаза, он узнает нас! Теперь, может быть, мы можем спасти его!
Калхас, казалось, в самом деле пришел в себя, и жизнь, по-видимому так скоро готовившаяся отлететь, снова показалась на его бледных щеках. Так мигающий огонек светильника в последний раз бросает свет, прежде чем навсегда погаснуть.
Десятый легион, предводительствуемый Лицинием и обязанный охранять личность любимого князя, быстрым шагом приближался к храму. Легионеры считались цветом римской армии и обыкновенно сражались на глазах самого Тита. Никакой неуместной торопливости незаметно было в движениях этих удивительно дисциплинированных войск, они не проявляли той неистовой стремительности, которая иногда делает набег неодолимым, но иногда является и весьма опасным свойством солдата. Одинаково и в атаке, и в отступлении десятый легион не пренебрегал ни ровностью строя, ни механической верностью шага. Бойцы, составлявшие его ряды, были одинаково спокойны и в удаче, и в несчастье[44] и справедливо гордились этим достоинством. Успех не опьянял их, так как победа была для них просто платой, которую они считали заслуженной. Неудача не лишала их мужества, так как у них было утешительное сознание, что десятый легион сделал все возможное для солдат, и один факт их отступления был сам по себе достаточным доказательством того, что этого требовала искусная стратегия.
Когда с дикими криками «распущенный легион» в неудержимом порыве ринулся в атаку, воины десятого легиона служили ему поддержкой, сохраняя свой строй и верный шаг. Улыбка презрения видна была на их загорелых, спокойных и выразительных лицах. Если бы им было приказано, они могли бы, по их мнению, взять храм, с меньшим шумом и вдвое скорее. И они безмятежно сдвигали ряды теснее, по мере того как люди падали один за другим под иудейскими метательными орудиями, и сохраняли во время движения свою суровую, неизменную и высокомерную осанку, чем всего более любили выказывать свою отвагу. Став во главе их, Тит обратился к ним с речью, не для того чтобы внушить им стойкость, силу или полное повиновение своим приказаниям — во всем этом он мог положиться на них, как на собственных детей, каким именем он и любил их называть — но для того, чтобы склонить их оказать пощаду побежденным и, насколько возможно, отнестись с уважением к имуществу и личности жителей города. Сверх всего, он надеялся спасти храм и по этому доводу говорил с Лицинием, ехавшим верхом подле него, до той минуты, пока с прискорбием не увидел вытянувшегося перед собой столба дыма и желтоватого пламени, вырвавшегося из него, и не убедился собственными глазами в том, что милосердие пришло слишком поздно.
Даже и теперь, предоставив своему генералу заботу докончить взятие города и блокировать укрепления, он дал шпоры лошади и во весь опор помчался к зданию, призывая солдат помочь ему погасить пламя. Но крики и жесты его не достигали цели. Хотя десятый легион был тверд как скала, однако остальные войска не могли удержаться от опьянения успехом, и солдаты, возбужденные примером гладиаторов, скорее способны были раздуть, чем прекратить пожар. Впрочем, даже при всем их желании самые деятельные усилия их не могли бы уже противостоять огненной буре.
Хотя битва продолжалась под колоннадами и в галереях храма, Иоанн Гишала все еще был жив, грабители все еще крепко держались там и сям небольшими, значительно поредевшими группами; хотя зилоты поклялись последовать примеру своего вождя и умереть до последнего, защищая священное здание, а сикарии не были окончательно истреблены, однако уже можно было считать Иерусалим принадлежащим римской армии. Лициний, введя десятый легион во дворе язычников, чтобы занять храм прочнее и воспрепятствовать, если возможно, его совершенному разрушению, встречен был в самом входе Гирпином, который отдал ему честь своим мечом, багровым от крови.
Латы старика-гладиатора были иззубрены и иссечены, одежда опалена и лицо закоптело от дыма, но, несмотря на страшное утомление, раны и истощение, в его голосе слышалась все та же грубая, вызывающая смелость и на лице была написана отвага и благодушие, не покидавшие его среди всех бедствий осады.
— Привет тебе, претор, — сказал он. — Я буду жить, чтобы повидать, как ты еще раз воссядешь на триумфальную колесницу на улицах Рима. Храм наконец в твоих руках со всем находящимся в нем, если только мы могли бы спасти что-нибудь от проклятого пламени. Теперь бой окончен, и я пойду поискать пленника, который бы мог мне указать, где найти воды. Желтая крышка блестит, как факел в смоляной бочке, и надо слишком сильно любить золото, чтобы иметь смелость брать его руками, покуда оно огненным потоком течет по кровельным желобам. Наши перерезали горло всем иудейским пленникам, как только они попали им в руки, и я не могу найти ни одного живого еврея, который бы показал мне колодец или цистерну. Светлейший! Я завоевал сегодня достаточно добычи, чтобы купить провинцию… но я отдал бы все за столько воды, сколько может вместить моя каска. Самый почтенный старик во всей Сирии умирает там в углу, оттого что не имеет глотка воды!..
Вернувшись во двор, согласно приказаниям государя, велевшего собрать людей и, если возможно, добыть воды, чтобы погасить пожар, Гирпин с большим изумлением и радостью узнал своего юного друга Эску. Он увидел затем и Калхаса, к которому, после его отважной проповеди гладиаторам в фехтовальном зале, питал искреннее уважение. Теперь старик лежал полузадохшийся от дыма, готовый испустить здесь, на мостовой, последний вздох. Старый гладиатор был растроган состраданием, и вместе с тем в душе его шевельнулось что-то похожее на гнев и стыд при сознании бессилия оказать помощь умирающему. Он говорил правду, уверяя, что охотно отдал бы свою долю добычи за наполненную водой каску, но, если бы даже он предлагал за это вместо провинции целое царство, и тогда ему не легче было бы достигнуть желаемого. Кровь текла ручьями, но воды не было ни капли. И скорее отчаяние, чем какая-либо надежда, побудило его рассказать об этом печальном случае Лицинию, на которого, естественно, полагался всякий воин армии, когда был в затруднительном случае.