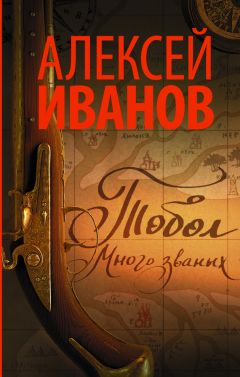– По пути заверни в Далматов монастырь, вклад мой завези. Я давным-давно обещал игумену Исааку список своей «Истории Сибирской».
– Завезу.
– Только «Историю» ещё переписать надо, – добавил Семён Ульяныч.
Пусть Семён займёт ум душеспасительной работой. Подвиг Ермака – он всегда всё по местам расставляет, и Семён, пока переписывает, поймёт, что бывают невзгоды и похуже беглой холопки.
– Перепишу, – безучастно кивнул Семён.
– И помолись на могиле старца Далмата. Отпустит тебя присуха.
У Тобольска ближе Далмата святых не было, если не считать могилы Ермака на Баишевском погосте. Но Ермака Семён Ульяныч уже приставил к делу, поручив сыну копировать свою повесть о Сибирском взятии.
– Не отпустит, – спокойно и твёрдо возразил Семён.
– Слушай, Сенька, да дьявол с ней, с Епифашкой твоей, – не выдержал Семён Ульяныч. – Сбежала она – и плюнь на неё. Всё одно она тебя не любила. Заскорузла она. Злая стала. Не хотела жизни с тобой.
– Я её найду, батюшка, и сам спрошу, – тихо сказал Семён.
– Провалитесь вы оба пропадом! – в сердцах пожелал Семён Ульяныч.
А Ваня, озабоченный мыслями о Маше, даже не увидел, чем живут Ремезовы. Сбылись худшие подозрения: Маша избегала его. Почему так случилось, Ваня не понимал. Неужели Володька Легостаев внезапно занял сердце Маши? Но почему сейчас? Они ведь давным-давно знакомы были… Маша держалась с Ваней как чужая. Здоровалась, улыбалась, но прежняя тайная теплота, прежняя осторожная тяга к нему – всё исчезло. И Ваня не мог поймать Машу, чтобы узнать наедине. Маша ловко поворачивала так, что рядом оказывались матушка, Леонтий или Варвара, и мягко уклонялась от разговора, а в конце дня уходила к подружкам на вечорки. Раньше никаких вечорок она не жаловала, и с Ваней ей было интереснее…
Ваня ловил её четыре дня, и, наконец, подкараулил на дворе у лестницы крыльца. Маша шла домой из амбара, несла под мышкой туесок с мукой, прикрытый полотенцем, а Ваня выскочил из укрытия и схватил её за локоть.
– Маша, погоди! – требовательно заговорил он. – Отчего сторонишься меня? Дуешься? Я что-то не то натворил?
– Мне, Ваня, недосуг, матушка ждёт, – сухо ответила Маша.
– Ну, тогда пойдём вечером погуляем.
– Заведи себе собачку Жучку, с ней и гуляй, – с тихой, зрелой яростью сказала Маша. – Её привязал, где хошь, и ступай по делам, а она подождёт. Ежели кто прибьёт, так не жалко, у соседей другого щенка возьмёшь.
Ваня понял, чем он оскорбил Машу: тем, что в опасности ярмарочной драки отмахнулся от неё, перевесил её на Володьку Легостаева, а сам полетел совершать подвиги. Маша смотрела на него прямо, с ясным ожесточением, а Ваня шарил взглядом по её лицу и не мог наглядеться. Эти глаза, которые чуть косят, словно видят что-то ещё, эти веснушки, этот вздёрнутый нос и злой румянец, эти тонкие светлые пряди, что выбились из-под платка… Надо было попросить прощения, но он не попросил. В чём он виноват? Он же был тогда на службе, он не за пряниками помчался, и она не в болоте тонула… Просить прощения, к тому же у девчонки, – недостойно офицера.
Маша догадалась, о чём он думает, и вырвала свой локоть из его руки.
– Не хочу я с тобой дружить, Ваня, – серьёзно сообщила она. – Чего я в тебе нашла? Треуголка да пистолет. Хороших парней и без тебя три улицы. Отстань от меня. Живёшь в дому – так и живи, а меня не трогай!
Она пошагала вверх по лестнице.
Ваня чувствовал, что Маша права, но ему так не хотелось признавать её правоту… Взбудораженный, Ваня усиленно размышлял над словами Маши, переживал, но боялся окунуться лицом в стыд, словно это разрушило бы в нём что-то очень важное. Упрямствуя, он рисовал себе красивую и горькую картину: он – человек чести, как царь Пётр повелел, он ответил на зов воинского долга, а Машка – просто маленькая, не доросла до понимания, обижается понапрасну. Надо лишь объяснить ей, что` в его жизни главное.
Вечером мрачный Ваня поднялся в мастерскую, где Семён переписывал книгу отца, и принёс с собой курительную трубку и кисет табака. Трубку и кисет он выпросил у сержанта Назимова.
– Давай подымим, дядя Семён, – предложил Ваня, усевшись на лавку.
– Вот уж не тянуло никогда. На что мне?
– А я попробую, – Ваня развязал кисет.
Суровым солдатам табачный дым – вместо дыма родного очага.
– С Машей нелады? – спросил Семён. Эти детские ссоры казались ему просто забавой от избытка бестревожного благополучия. – Твоё горе не беда, Ваня. У молодых всегда оно так: то милуются, то в драку, потом снова целоваться. Главное – насовсем друг друга не потерять.
– Не понимает она меня, дядя Семён, – признался Ваня.
– От строптивости девчоночьей топорщится, как утиный подхвостыш. Помиритесь, поладите, и всё она про тебя поймёт. Если любит – примет.
В это время в мастерскую заглянула и сама Маша. Увидев Ваню с Семёном, она рассердилась. Конечно, Ванька сетует на неё. А она не хотела выносить свою обиду на чужое суждение.
– Матушка вечерять зовёт, – сказала она.
– Зовёт – иду, – Семён сразу встал. – А ты хоть выслушай его, Маш.
Маша фыркнула, но Семён уже открывал дверь.
– Ну, говори, Ваня, – неохотно пригласила Маша.
– Я не умею за девицами ухаживать, Марья Семёновна, – Ваня хмуро посмотрел на неё исподлобья. – На службу меня ещё отроком взяли, потом в чужие страны на учёбу отправили. Я девиц-то и не видел, не знаю их.
Честность в этом не стоила Ване усилий: не девицы доблесть офицера.
– Не знаешь, так не лезь, – безжалостно ответила Маша.
– Ты мне очень к сердцу припала, – Ваня старался говорить твёрдо. – Но я солдат. Первым делом отечеству служу. И другим я не буду.
Ваня надеялся, что Машу покорит его воинская самоотверженность.
– Так женись на пушке! – отсекла Маша. – Она чугунная, ей не больно!
Ваню по душе хлестнуло гневом, как плетью.
– Ну, как знаешь! – ожесточился он. – На колени я не встану!
Маша повернулась и вышла из мастерской, хлопнув дверью.
На ужине Ваня теперь сидел на самом дальнем конце общего стола, где помещают детей, холопов и маловажных гостей. Горели лучины, окна уже были закрыты ставнями, на ночь топилась печь – в её объёмистой утробе потрескивали дрова. Ремезовы дробно стукали деревянными ложками, по очереди разбирая гороховую кашу с маслом. Смурной Ваня не замечал, что Петька призывно подмигивает ему и ёрзает. Петьку распирала новость – настолько горячая, что он не мог сидеть спокойно, и всё же очень опасная, потому он и дожидался, когда батюшка разделается с кашей и подобреет.
Семён Ульяныч облизал ложку, положил на стол и перекрестил живот.
– Благодарствую, мать, – выдохнул он. – Марея, налей киселя.