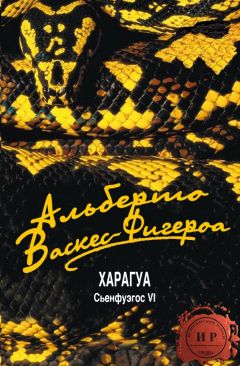Вне всяких сомнений, африканка именно так и поступила.
Измученная, голодная и убежденная, что у ребенка, которого она носит, нет ни малейшего шанса родиться белым, она решила сдаться и завершить свой долгий и нелепый жизненный путь, начавшийся в деревушке на берегу озера в далекой жаркой Дагомее и закончившийся здесь, у подножия снежных Анд, где в конце девятнадцатого века в леднике найдут ее тело — к величайшему удивлению всех тех, кто ничего не знал о ее драматической истории.
Итак, перевернулась очередная и самая драматичная страница жизни Сьенфуэгоса, бесконечно измученного и душой, и телом, однако решившего любой ценой сохранить жизнь: ведь только она у него и осталась. Он решил спуститься к пойме реки, где ему предстояло провести долгие месяцы в крошечной лачуге, наблюдая, как идет дождь, прибывает вода в реке, играют и нерестятся рыбы, спариваются птицы, плещутся в реке выдры и караулят добычу ягуары. Сьенфуэгос так и не мог принять решение, что делать дальше, или даже как выбраться из глубокого ущелья.
Прямо над ним расстилались снега и пустоши Большого Белого, а за спиной высились скалистые горы свирепых мотилонов.
И если рыжий козопас в чем и был уверен, то лишь в том, что больше никогда не наденет белую накидку паломника из перьев цапли. А коли так, то сам собой напрашивался вопрос: как он теперь пересечет территорию дикарей, имеющих жуткую привычку украшать мосты черепами чужаков?
На протяжении многих часов Сьенфуэгос старательно вспоминал всё, ему его учил Папепак — охотник на кайманов, называвший себя Хамелеоном, который когда-то спас ему жизнь, а потом стал самым лучшим учителем выживания в джунглях, о каком только можно мечтать. И теперь канарец старался вспомнить каждое его слово, каждый жест; даже молчание, ибо молчание тоже может оказаться весьма полезно, если знать, как его истолковать.
Среди всех его бесчисленных советов был один, который Сьенфуэгос запомнил особенно твердо; эти слова как будто огнем выжгло в его памяти. «Запомни, сельва ненавидит тех, кто ее боится, и убивает тех, кто ей вредит. Но сельва любит тех, кто ее любит и уважает. Просто запомни это, прими как данность и положись на ее волю. Тогда ты сможешь выжить».
Папепак наглядно показал, что даже в самых непролазных, жарких и душных чащобах, где, казалось, все превратилось в грязь и смерть, всегда можно выжить — если знать, где найти дикие фрукты, лиану, откуда можно добыть воду, съедобные коренья или червей, пусть неприглядных на вид, но вполне способных утолить голод.
Папепак научил его всему, кроме одного — как уберечься от ужасных мотилонов.
Сьенфуэгос знал, как спастись от ягуаров, кайманов, змей или ядовитых пауков; даже от кровожадных карибов, пожирателей человеческой плоти, имеющих привычку подстерегать людей в мангровых зарослях или на берегах рек, но Папепак никогда не рассказывал — очевидно, потому, что никогда с ними не встречался — о племени людей-невидимок, что рыщут по горным лесам, скрываясь в тени деревьев и оставляя за собой лишь гниющие трупы.
Теперь Сьенфуэгос должен сам научиться им противостоять.
Но как?
Несколько недель он пытался найти способ пересечь эти дикие края, где за каждым кустом или деревом мог скрываться убийца, и когда в конце концов составил план, показавшийся приемлемым, то выкрасил волосы и бороду в черный соком хенипапы, намазав им и большую часть тела, после чего его можно было легко принять за близкого родственника Уголька.
На следующее утро он взвалил на спину свернутый гамак и котомку из грубой ткани, которую с величайшим терпением изготовил из волокон дикого хлопчатника, в изобилии растущего по берегам реки, взял оружие и короткую палку с привязанной к ней гниющей тушкой обезьяны, и пустился в трудный и опасный путь.
Сначала он поднялся наверх по склону оврага, где терпеливо дождался наступления ночи; затем, решив, что все дикари, что, возможно, рыщут вокруг, сейчас давно уже спят, медленно и на ощупь продолжил путь в непроглядной тьме, тщательно нашаривая дорогу руками и ногами.
Он стал похож на темную ящерку или анаконду, метр за метром скользящую по краю пропасти, так осторожно, что и с пяти метров его никто бы не обнаружил. Хотя Сьенфуэгос был уверен, что никто его не разглядит, он постарался двигаться как можно тише, ибо, как уверял его учитель, крошка Папепак, «Лишь тот, кто научится владеть собой, когда это не кажется необходимым, сможет подавить страх, когда без этого не обойтись».
Превратиться в хамелеона оказалось не так-то просто, ведь человек по природе своей — существо нетерпеливое и резкое, порабощенное нелепыми страхами и иррациональной торопливостью, но тут у Сьенфуэгоса имелось преимущество — все детство пастух проводил в долгих ожиданиях и часто играючи застывал, как каменный, так что даже ящерицы, воробьи и кролики могли без опаски есть у него с рук.
Учитывая этот опыт, он почти два часа преодолевал последние метры до верха оврага, застывая на долгие минуты и прислушиваясь, так что через некоторое время мог определить точное положение каждой поющей в ночи цикады.
Снизу до него доносился шум реки, бегущей среди скал; где-то поблизости слышались крики ночной птицы; над головой смыкала густые кроны молчаливая сельва; порой тишина оглашалась истошным предсмертным воплем попугая, застигнутого во сне незаметно подкравшимся хищником, а порой мимо бесшумно проносились совы, караулившие добычу.
Наконец, он добрался до верха, сумев избежать осыпающихся камешков и встречи с крошечными существами, в чьих тельцах размером не больше двадцати сантиметров в длину содержалось столько яда, что он мог бы убить даже такого крупного человека, как канарец. Ему также приходилось опасаться ужасных скорпионов размером с палец, но так болезненно кусающихся, что хотя укус и не был смертельным, жертва завывала еще несколько дней.
Только сова, скучающая на склоненной над пропастью ветке, заметила, как Сьенфуэгос выбрался из расселины, и судя по выражению ее круглых глаз, она задавалась вопросом, что за черное и потное чудовище движется в ночи медленно, лениво и тихо, как пума, оставляя за собой тошнотворную вонь гниющей обезьяны.
И вот он наконец-то стоял посреди настоящей горной сельвы, влажной и теплой, удушающей и липкой, иногда молчаливой, как мертвая, я иногда шумной, будто все ее жители разом решили завопить, он прошел около пятисот метров, принимая все те же меры предосторожности, как и на склонах оврага, бросил обезьянью тушу у раскидистой альбиции и нашел укрытие в густом папоротнике, а там скрючился таким образом, что никто не заметил бы его присутствия, даже пройдя почти вплотную.