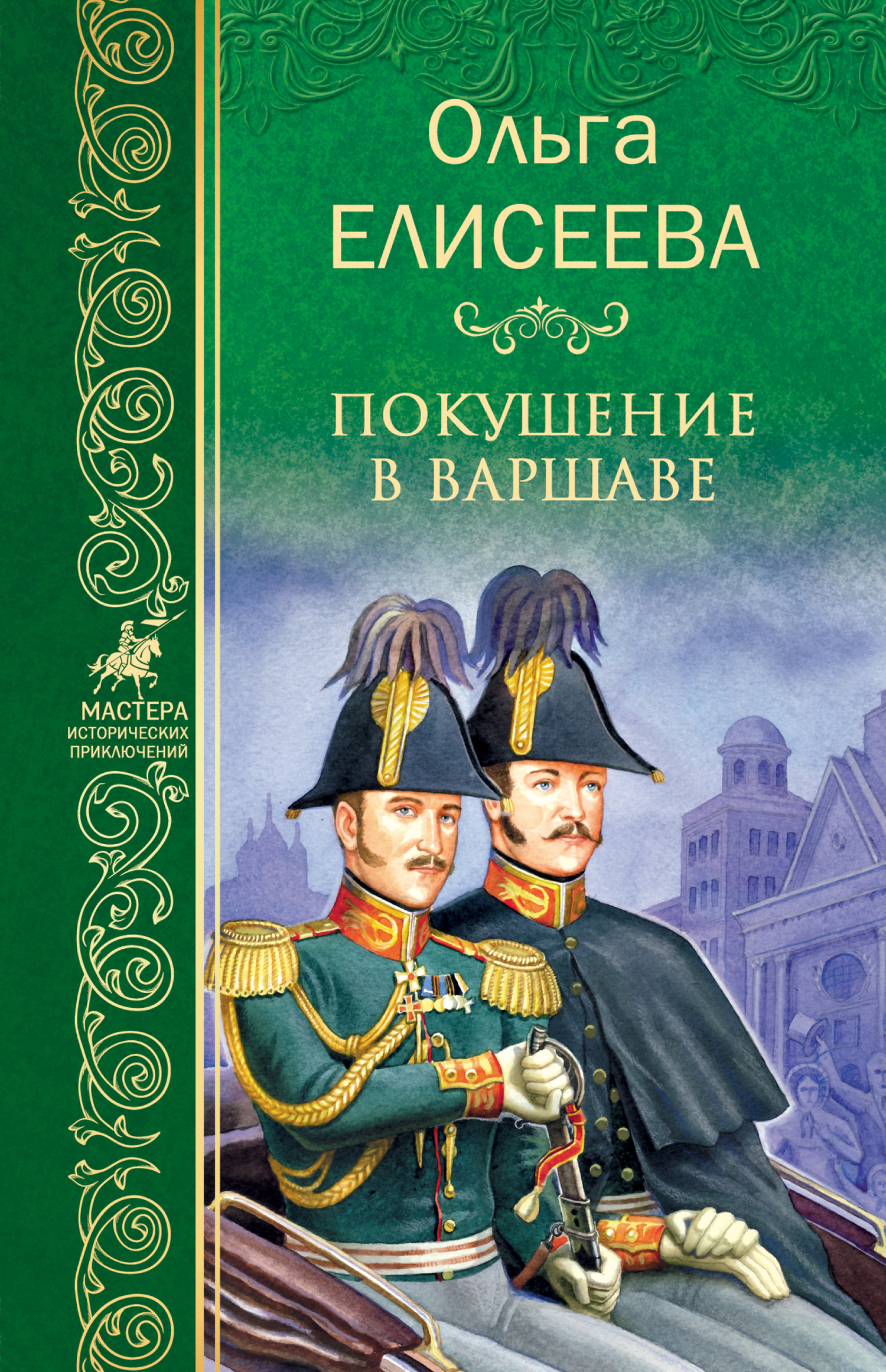слишком долго задержалась у зеркала.
– Что вы себе позволяете? – Юноша выступил вперед, оттесняя графиню и норовя оказаться перед воображаемым обидчиком. Для Морица было в новинку, что кто-то запросто хватает госпожу Вонсович за руки. Он хотел бы закрыть собой мать.
Бенкендорф поднял на Морица тяжелый взгляд и уставился в свое собственное лицо. Этот был похож на него еще больше, чем Жорж. Юноша тоже оторопел, разглядывая незнакомца и не понимая, что во внешности этого генерала его так смущает.
– Ты, – гневно бросил Александр Христофорович графине через плечо сына, – ты воспитала его в ненависти, заставила носить мундир пораженцев. И вообще, как можно было назвать нашего сына Маврикием?!
Он развернулся и пошел прочь, слыша в спину:
– Это сын графа де Флао, внук Талейрана! Нравится кому-то или нет!
* * *
– Мама, о чем говорил этот человек? – уже в карете спросил озадаченный Мориц. – Какое право он имеет так говорить? И кто это вообще?
Анна только поморщилась.
– Тебе достаточно знать, что он ошибается. Твоя родословная всем известна. Прав у него никаких нет. И никогда не было. А зовут его, – графиня помедлила, – Бенкендорф. Самый цепной из цепных псов царя. Доволен?
Мориц похолодел. Нет-нет, он сын де Флао, с какой бы очевидностью сейчас ни открылось другое. Никто не должен знать!
– Собой нас делает не происхождение, – произнесла Анна, – а тот выбор, который преподносит судьба. Шаг влево – и ты слабый, вечно ждущий подачек сатрап жестокого деспота. Шаг вправо – и ты солдат, исполняющий приказы, не задумываясь об их бесчеловечной сущности. Шаг вперед – и ты герой, готовый положить жизнь на алтарь родины. – Она взялась пальцами за портрет Юзефа. – Но есть еще шаг назад. В небытие. Отступишь, уйдешь в тень, скажешь: с меня хватит – и ты никто.
Мориц задумался.
– А какой шаг сделал этот человек?
– Разве не очевидно? – пожала плечами мать.
Сын подавленно молчал.
– Но, я думаю, для русских те же шаги значат нечто совсем иное, – наконец выдавил он.
Графиня была раздражена разговором.
– Что за дело тебе до русских? Ты поляк, и для тебя может быть верна только одна правда. – Она помолчала. – Достойные люди не любят, боятся и презирают этого человека в его собственном отечестве. Он сделал нечто такое, что навсегда лишает чести и доброго имени.
– Что?
Графине очень захотелось сказать: «Ты еще мал и не поймешь». Но сын был взрослым, и если она хотела, чтобы он делал выбор, нужно говорить до конца.
– Он уничтожил немногочисленных сторонников свободы в этой ледяной пустыне и встал во главе тайной полиции, которой поручено карать и топтать все самое чистое, светлое и святое, что может произрасти в гнилостных болотах России.
Мориц сидел, вжав голову в плечи. Он был напуган и подавлен, но вместе с тем озадачен услышанным. Неужели у москалей имелись сторонники свободы?
* * *
В эту ночь Александр Христофорович спал плохо. То и дело ворочался, сминал ногами одеяло, крутил подушку. Больше обычного вспоминал семью. Тревожился за Жоржа. Донесения донесениями, но сам-то парень как? Справляется? Вроде и причин для беспокойства нет, но что-то сосет сердце, выжимает душу, как бабы белье у проруби.
Видно, приходит возраст, когда ни спокойствия, ни беспечности нет в помине. Ушли вместе с пустоголовой молодостью. Ах, как бы вернуть! Да не возвращаются. Все. С каждого бока по заботе. И тонет человек, погибает от ответственности, хотя с виду – очень импозантная внешность в мундире и при орденах. А изнутри все пустое, как бывает сгнила сердцевина у дерева, но стенки еще есть, ветки зеленеют. Можно ударить, и гулко отдается стук благодаря этой полости. Странно только, что пустота болит. Или болеет. Значит, есть все-таки что-то внутри. Какие-то склизкие грибы-наросты.
Он не удивился, когда дверь в его спальню, выгороженную из одной гостиной в Круликарне, отворилась. И на пороге возникло привидение со свечой в руке. Сколько таких случаев Шурка видел по молодости, когда ничего не представлял из себя? Сколько уже зрелым человеком при чинах? И сколько теперь, главой III отделения, ближайшим советником царя? Высокое положение соблазняет дам. Ничего не поделать.
Он сразу узнал госпожу Апраксину. По движениям и спокойному, покорному шагу.
– Одна ночь, – прошептала она. – Я заслуживаю.
Каждая хочет одну ночь, а потом предъявляет претензии. А не черт ли с ним шутит? Голова лопается от проблем. Он тоже заслужил хоть пару часов ни о чем не думать. Задуть светильник разума, как говорили философы в прошлом веке.
– Иди сюда, – его руки сомкнулись вокруг талии гостьи. Мила, да мила. Но не милее сотен. Тем более Лизаветы Андревны – законного успокоения на все времена. Однако за неимением… поехали.
Утром, ускользая от него, Софи поцеловала дремавшего любовника в лоб.
– Спасибо. Я должна была ну хоть раз попробовать.
– И как? – сквозь сон спросил он.
Апраксина слабо рассмеялась.
– Я много потеряла, если вы о себе. Но, – она помедлила, – измены – не мое. Я останусь доброй супругой. И вы очевидным образом ищите другого.
Александр Христофорович надломил бровь. Кого это, интересно, он ищет?
– Вы всю ночь называли меня Яной, – сообщила молодая женщина. – Значит, все мысли заняты ею.
Этого еще не хватало! Бенкендорф сел в кровати. Сон как рукой сняло.
– А еще что-нибудь я говорил?
– Бессвязно. Я старалась не слушать, – уклонилась Софи. Но любовник поймал ее за руку.
– И все же?
– Что-то о сыне, – призналась Апраксина, – не надо-де делать его врагом, дети же ни в чем не виноваты.
Александр Христофорович отпустил пальцы Софи, словно говорил: можете идти.
Апраксина еще раз поцеловала его в усы. Ее несбывшееся счастье. Выходит, не такое уж счастье: у всех свои беды. По-другому не бывает.
– Спасибо, – повторила она и выскользнула из комнаты.
Шурка остался озадаченным. Ой, не о семье он, оказывается, думал. Есть у человека поверхностные мысли, а есть какой-то глубинный «задний ум», коренящийся даже не в голове, а на дне души. Вот этим-то умом Бенкендорф удерживал образ Яны, а еще пуще ее долговязого и бесцветного сына. Боже, как ему не везет! От законной жены одни девки. Зато любовницы, как сговорились! И какие лбы! Один Жорж чего стоил. Теперь еще этот Маврикий! Губы Александра Христофоровича выгнулись в презрительную гримасу. Почему не Матвей, не Макар? Сколько можно найти нелепых, ни в какие ворота не лезущих имен!
«Это мне в отместку, – решил Бенкендорф. – Назвала, чтобы люди оборачивались».
Теперь Анна шла по Саксонскому бульвару, нюхала сирень и мечтала о том, как расцветет белый шиповник, займется дух от аромата жасмина. Сколько еще радостей в ближайшие дни! Ничего, что тюльпаны пожухли. Им на смену поднялись ирисы. А там будут резеда, незабудки, и так до осени, до флокс. Нет, мир прекрасен! Как прекрасна Варшава, где есть и трескучие морозы, и нега в летней тени!
Графиня не знала, что после вчерашнего Мориц всю ночь мучился мыслью, какой у него ужасный, на самом деле, отец. Просто шла и вдыхала вечерний воздух, радуясь каждой минуте под цветущими кустами. Скорое будущее представлялось ей таким же прекрасным и грозным, как небо сквозь ветки сирени. Отдаленные раскаты грома не пугали. Она испытывала радостное возбуждение, словно волны электричества