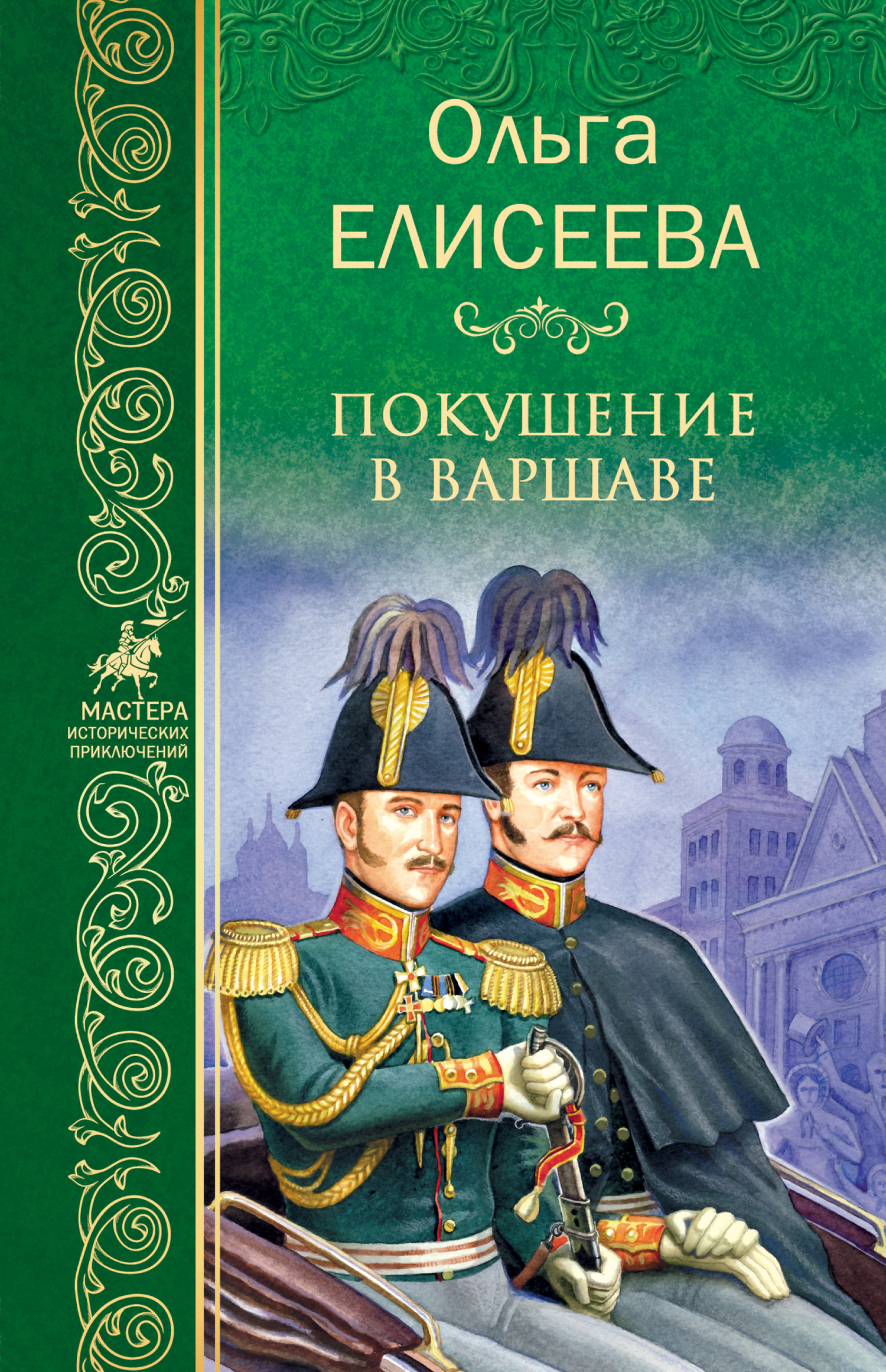пробегали по всему телу. То покалывая сердце, то отдаваясь дрожью нетерпения в коленях.
За один день полного счастья, такой, как при вступлении Бонапарта в Варшаву, за несколько месяцев возможности дышать полной грудью она отдала бы все. Годы постылого благополучия, свое богатство, даже самою жизнь.
А жизни детей? Такой вопрос встал перед ней впервые, потому что прежде сыновья были слишком юны. Но теперь им волей-неволей придется принять участие в том, что грядет. «Надеюсь, я воспитала их достойными людьми», – сказала себе Анна. Она была никудышной женой, но матерью… матерью оказалась прекрасной. Растила детей в любви и холе, никогда не расставалась с ними, читала по вечерам, гуляла, держа за руки. И всегда говорила о Польше. Ее бедах, ее надеждах, ее королях, ее героях… ее врагах. Вернее, об одном – самом главном, том, что с востока. Разве ее сыновья могли вырасти плохими людьми? Разве в их груди не то же нежное, раненое сердце, что и у самой Анны?
Графиня приближалась к казармам Подольского кирасирского полка. Раньше здесь были пустыри. Но квартирующие каждое лето части так засадили неприютный уголок, что он сделался похожим на английский парк. Между деревьями были проложены гравиевые дорожки, щедро посыпанные красноватым дробленым камнем. По ним прогуливались няни в чепцах, они катили коляски или наблюдали, как дети взапуски бегают друг с другом по плотно постриженным газонам.
Анна чувствовала, что над общим покоем и безмятежностью нависла угроза. Эту угрозу должны были принести в свой дом именно те, кто его более всего любит. У графини сжалось сердце, но она поспешила вперед, стараясь не смотреть по сторонам. Над деревьями сзади виднелись острые шпили. Три креста осеняли собой все южное предместье. Крест святого Яна Непомуцкого и два на колоннах по обе стороны от входа в церковь. Наверное, их было видно от самых Лазанок.
Анна приблизилась к окраине Лазанского парка. Очень странно. Неужели здесь? Может, они еще прячутся прямо во дворце? Последней резиденции последнего короля Станислава Августа? Это было бы символично.
Миновав плакучие ивы и фигуру козлоногого Пана, обнимавшего пустой рог изобилия, графиня вышла к оранжереям. Здесь ее должны были ожидать. Двое монахов в коричневых рясах устремились к ней. Дама назвала пароль – строчку из Цаприана Норвида: «Взываю, отступи, о глыба ледяная! Доколе под тобой я буду умирать?» И услышала ответ из Мицкевича: «У рабов лишь одно есть оружие – измена».
Когда «свои своя познаша», графиня последовала за монахами, которые увели ее мимо оранжереи и впустили во дворец боковым входом, через церковь. Госпожа Вонсович сто раз была здесь, но не подозревала, что есть галерейка из-за алтаря на хоры, а оттуда в стене все вверх и вверх по винтовой лестнице до жилых покоев. Стены дворцов, должно быть, как соты, изъедены множеством ходов. Только те, кто неприметно служит сильным мира сего, исчезают и появляются в нужный момент, знают тайные переходы и лестницы. Эти люди могут сделать куда больше, чем ранее полагала графиня.
Спутники ввели ее в Желтую гостиную с ползущим золотым орнаментом по стенам, портретом Станислава-Августа без регалий, атласными диванами канареечного цвета, один из которых – особый, королевский, под балдахином – сиротливо жался к стене, лишенный своего хозяина.
Еще пара комнат, спуск по лестнице в менее презентабельную часть дворца – к кухне. Долгий переход. И вот – почти казармы. Давно забытая гауптвахта, которую бросили около четырех десятилетий назад.
Так вот где они прячутся! Оказалось, ее пригласили не на само обсуждение покушения. Как она была наивна! И что о себе мнила! А на обычную встречу общества «Изящных искусств», созданного специально выпускниками Школы подпрапорщиков, желавшими просвещаться дальше.
Умно. Спросят, что делаете? Слушаем лекции профессоров университета по разным вопросам истории и словесности. Откуда среди вас, господа, студенты и монахи? А мы ни для кого не закрываем двери.
Анна увидела полтора десятка голов. Молодые люди сидели, вольно раскинувшись. Кое-кто покуривал – это не возбранялось. Задавали вопросы прямо с места. Вступали в споры, перебивали друг друга.
За импровизированной кафедрой стоял профессор с курчавыми бакенбардами и зачесанными на высокий лоб прядями волос. Он читал лекцию о национальном духе, как преобладающей силе истории. Графиня прислушалась.
– Дух свободы, противления всякой попытке угнетать и порабощать есть особенность нашего народа. Он резко противостоит холодной, грубой природе москалей, которые любят – уясните себе это, – любят подчиняться чужой воле, именно потому что лишены своей. Если Польша – совокупность воль свободных людей, может быть, не всегда нами верно направляемых, иногда противоречивых, но постоянно движущихся к самовыражению. То наши враги полностью лишены личностного начала. Они ничто без единой воли верховного самодержца…
– Но почему так? – подал с места голос молодой человек в кирасирской форме. – Ведь мы близки по крови. А так непохожи. Когда они надломились?
Профессор обеими руками взъерошил волосы на висках.
– Думаю, все дело в монголах, которые когда-то поработили их и смешались с ними. И вот уже ваше: «близки по крови», – становится абсолютно неверным. Они по-татарски дики, раболепны перед царем, как перед богдыханом, воинственны и жестоки. Причем азиатски жестоки. Всплески благородства у них – явление случайное и временное, оно обусловлено лишь каплей-другой общей с нами крови, которая ненадолго может пробиться из-под спуда и засиять на солнце, но будет неизбежно погребена под наплывами векового рабства и унижения. Из-за пережитой когда-то боли они уже ничего не чувствуют. Жалеть их?
Собравшиеся молодые люди застучали по полу ногами, выражая крайнее неодобрение.
– Можно и пожалеть. Но только после того, как мы освободимся. От нас может исходить их свобода. Не наоборот. Царь Александр оскорбил нас, предписав нам закон и якобы даровав конституцию. Напомню, у нас она уже была. У нас отняли, а не даровали права. И в любом случае не русскому царю диктовать нам юридические акты. Он все поставил с ног на голову. Это мы можем просвещать и призывать их к свободе, ибо более цивилизованны.
Гул одобрительных голосов поднялся среди слушателей.
– Но почему так? – настаивал кирасир. – Мы недовольны отдельными офицерами, особенно из окружения великого князя. Но в целом они люди, как люди. Мы только не желаем ходить под их командой. Хотим обратно земель, которые они отняли. Не можем терпеть над собой чужого ига, как и они когда-то не потерпели татар. Но так сказать, чтобы все русские были плохи, по-человечески плохи, я не могу.
Настырный попался! На кирасира зашикали товарищи.
– Я не сказал: «плохи», – терпеливо пояснил профессор. – У себя дома, если заставить их работать на своих бесплодных полях, может быть, они хороши. Но, думаю, они дики. Не ценят свободу. Ни свою, ни чужую. Потому что в их нехитрой повседневности она им просто не нужна. Это слишком сложная для них вещь. Они понимают только крайности: абсолютная вольница, иди ломай кабаки и сворачивай несогласным головы, грабь, убивай, забирай чужое. Вот их свобода. Или же полное подчинение верховной власти – растворение в ней. Слияние собственной воли с волей господина. Как у насекомых. Попробуйте обидеть пчел – закусают до смерти. Но сказать, чтобы каждая отдельная пчела понимала, почему нацелила жало, тоже нельзя.
– А я слышал, что