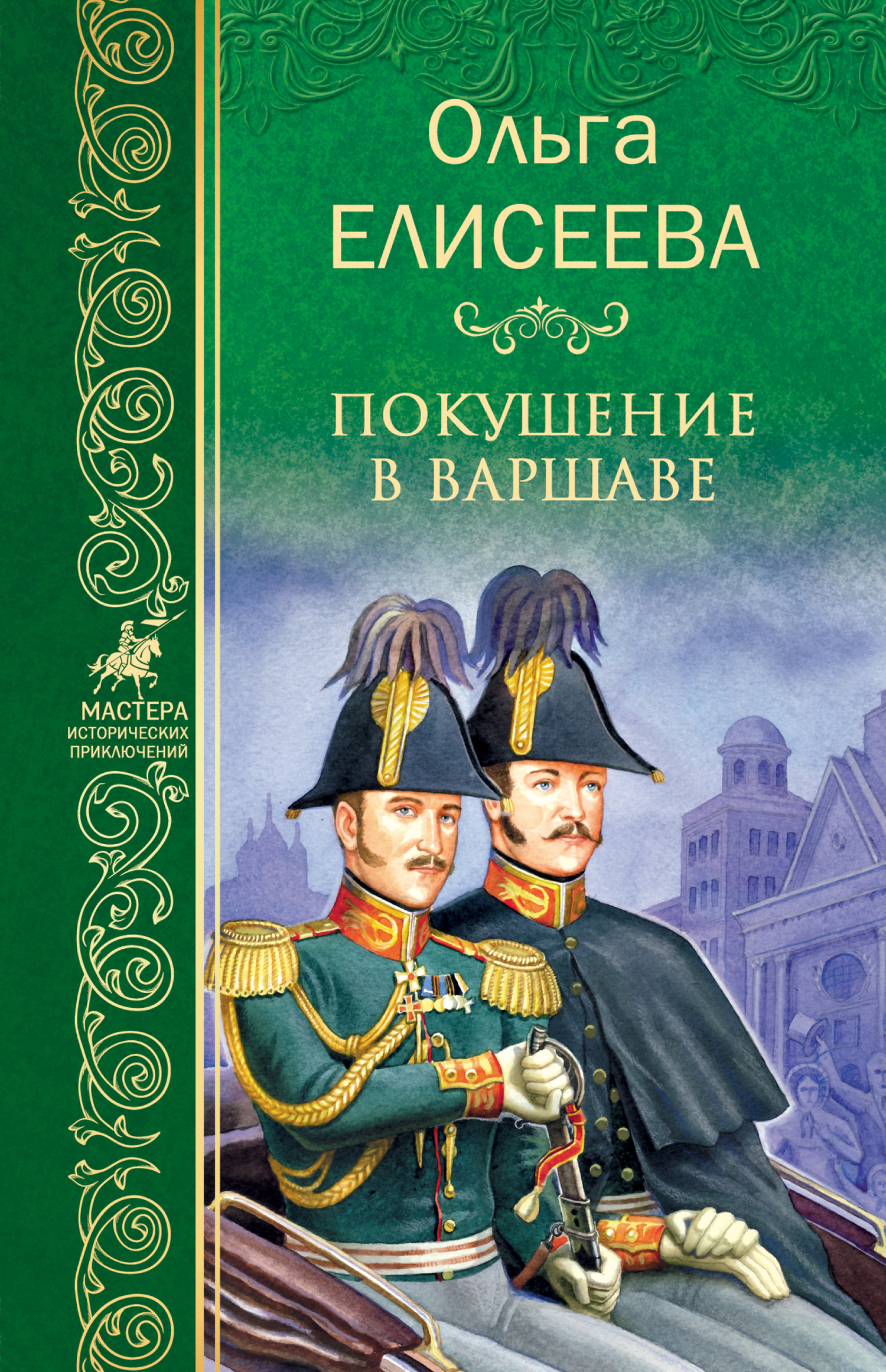императора Александра порицали сами русские, – подал голос молодой человек, сидевший в первом ряду. Анна с ужасом узнала своего сына Александра. – Получается, русские считали его отщепенцем? Не хотели повиноваться, раз он делал что-то, не совпадающее с их представлениями?
Профессор вытер круглые очки.
– Интересный вопрос в рамках рассматриваемой темы. Заметьте, царь дал конституцию нам, а не своим подданным. Да еще заявил, что они к ней пока не готовы. Прав он был? Без сомнения. Хотя и обидел этих убогих до крайности. Я бы сказал, до сердечного озлобления. Они ему не простили. Он как бы выпал для них из поля национального духа. И сколько бы они внешне ни преклонялись перед ним, царь Александр стал чужим, непонятным, а значит, враждебным для большинства русских. О, это очень тонкий момент, друзья мои, позвольте заострить на нем ваше внимание.
Молодежь, пустившаяся было обсуждать Александра I и недостатки его конституции, смолкла.
– Видите ли, Бог подарил людям полную свободу воли. У нас с русскими эта особенность реализуется по-разному. Смею предположить, что дело в религиозных конфессиях. Но о религии лучше расскажут священники, которые вас посещают…
«Тут бывают и священники, – отметила Анна. – Интересно, что они читают?»
– Мы несем зерно свободы выбора в самих себе. В каждой отдельной личности, которая защищена индивидуальными свободами строго в соответствии с принятыми законами. Для нас, как и для всех европейцев, свобода – суть набор прав, за которые мы не выступаем, чтобы не нанести вреда другим людям, и в пределы которых никого не впускаем, чтобы вред не был нанесен нам. Русские куда более стихийны, неотесанны. И православие, в отличие от латинской церкви, не выстраивает жестких иерархий, не структурирует сознание, не ставит ему рамок. Не дисциплинирует. Их свобода мала, именно потому что при расширении обращается в хаос. А они столь недалеки, что дерзают думать, будто и у других народов так же. Поэтому русские придирчиво ищут среди своих венценосцев особ, в ком бы народный дух воплотился в наибольшей степени. Отсюда и множество дворцовых переворотов, убийств, чехарда на престоле. Уничтоженные ими самими деспоты не просто слабы или неумны, они не совпадают со своими подданными в ритмах дыхания. Чужие.
– Но нынешняя династия вся немецкая, – крикнул с места другой слушатель, и Анна с тревогой увидела Морица. Что ее дети тут делают? И почему не поделились с ней? Откуда у них тайны?
– Да, верно, они все немцы!
Вот и ответ на ее вопросы. Рядом с Морицем сидел Роман Сангушко. Он их и привел, безумец!
– Я каждый день в этом убеждаюсь, – продолжал зять графини Вонсович. – Цесаревич Константин вроде и русский, на наш вкус. С закидонами. Но сами его русские офицеры постоянно подмечают в нем немецкое. Думаю, и в покойном государе Александре было то же самое.
– А в новом? В новом царе? – быстро спросил профессор.
– Пока не слышал, – вынужден был признать Сангушко. – На него не жалуются. Даже напротив.
– Что дурно для нас, – отозвался лектор. – Значит, русские нашли «своего», и это ни к чему хорошему не приведет. Воля самовластного царя – это не обруч, скрепляющий кадушку с бесформенным тестом, как многие думают. Воля царя пронизывает каждую пору этого гигантского организма, заставляет двигаться, жить и достигать целей. Она не снаружи, а изнутри. Уберите ее, и не бочка распадется по доскам. Нет, растечется по земле квашня – не собрать. Вот почему они так стоят за самодержавие и боятся законов. Только переродившиеся в европейском духе люди у них хотели бы того же, что для нас естественно. И, положа руку на сердце, скажу вам, для их страны гибельно. – Лектор сделал паузу. – Нам ли не желать им гибели?
Слушатели зааплодировали.
– Тогда скорейший путь к ней через гибель единого носителя их воли, – подытожил профессор. – Исчезновение императора приведет к хаосу. Громадное тело без головы начнет совершать несообразные движения. У нас появится шанс вырваться из медвежьих объятий.
– Убьем царя, – провозгласил до сих пор молчавший и сидевший в стороне молодой монах в черной рясе ордена Пиаров.
Все воззрились на него с укоризной. Не в том смысле, что он сказал чушь. А в том, что выбалтывать сокровенные мысли не стоит.
Август Потоцкий встал, обернулся к матери. На его лице не возникло удивления, что говорило об осведомленности молодого человека. Поднялся и Роман Сангушко. Только для Морица ее явление было полной неожиданностью, и он сконфузился. Первые же двое пошли к графине и с почтением подвели ее к профессору.
– Мадам, позвольте представить вам Иоахима Лелевеля [82], доктора философии нашего университета.
– Прекрасная лекция, – с чувством сказала Анна.
– Быть может, чуть сложновато, – усомнился профессор.
– Не для меня. – Графиня терпеть не могла, когда дамам делали скидку на недостаточный ум и образование. – Я многое поняла на счет наших противников. Теперь очевидно, что иного пути, кроме устранения главнейшей воли, нет. Необходимо убрать императора, и вся пирамида посыплется камень за камнем.
– Не спешите, – предупредил профессор. – Разве братья 14 декабря, четыре года назад не хотели того же самого?
– Они были в своей стране, мы в своей, – отчеканила Анна. – То, что не далось горстке заговорщиков, шедших как раз против национального духа, о котором вы говорили, может получиться у нас, в согласии с духом нашей земли.
Лелевель поклонился. Он подвел ее к бледному юноше в рясе, который подал последнюю реплику.
– Винсент Смагловский. Наш исполнитель.
Молодой человек поклонился.
– Но что вы намерены делать и когда? – графине не терпелось узнать, но она сознавала, что вокруг множество полупосвященных.
– Позвольте предложить вам чаю, – улыбнулся Лелевель. – В конце концов я только лектор. У каждого общества есть председатель. Он более осведомлен о деталях.
На мгновение Анне представилось, что ее сейчас подведут к одному из ее сыновей. Или она узнает, что кто-то из них непосредственно участвует в покушении.
Но нет. К счастью, председателем оказался подпоручик Петр Высоцкий. Тот самый кирасир, который, для вида, больше всех сомневался. Часть слушателей разошлась. Вверх по лестнице к Желтой гостиной с портретом последнего короля удалилась всего пара человек.
* * *
Здесь графине представили еще несколько лиц постарше: газетчики, литераторы, сеймовые крикуны. Маврикий Мохнацкий, Ксаверий Брониковский, Людвиг Набеляк, Северин Гощенский. Всех их она либо знала понаслышке, либо читала.
– Вот наши умы, – провозгласил Лелевель. – Истинное золото, если речь идет об общественном мнении. Их объединение с воинской молодежью даст ту нужную искру, которой не было у русских 14 декабря и которая подожжет солому – распалит чернь. Именно участие толпы делает революции, сударыня. Вы согласны?
Анна помолчала.
– Речь как будто шла о покушении. А не о толпе. Толпы имеют привычку все переворачивать.
– О, – кивнул профессор, – вы знаете, о чем говорите. Да, история французов учит нас. Но не пугает. Не должна пугать и вас. Разве все знатные пострадали в Париже? Скорее нет. Те, что примкнули к революции, остались неприкосновенны.
«А Филипп Эгалите? – возмутилась графиня. – Кого он обманывает? Я не студент и не молодой подхорунжий!» Но пока она предпочла слушать, сознавая, что явление такой знатной особы для собравшихся здесь публицистов очень многое значит. Варшава – не Париж, и польские газетчики по отношению к ней вовсе не так независимы, как их французские коллеги по отношению к герцогу Орлеанскому, брату казненного короля. Эти