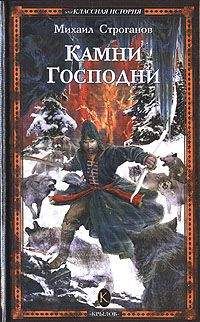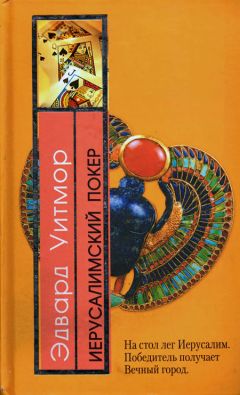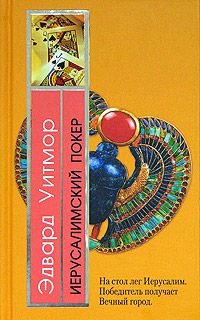Терешка с досадой плюнул на землю и замолчал, видя, что к его горькому возмущению окружающие остались безучастными. Мужики столпились возле церкви, стянули с головы шапки, крестясь на застывшие в летней синеве осиновые кресты и, ожидая выхода отца Николы, понуро замолчали. Обезумевшая нагая Дуняша металась подле них с безнадежным отчаянием загнанного зверя, с нескрываемой мольбой предлагая свой измятый, окропленный кровью девичий венок.
Мужики стыдливо отворачивались, переводя взгляд с безутешной нагой Дуняши вверх, туда, где в глубине летнего неба плыли слегка посеребренные морозами деревянные церковные купола; размашисто крестились и молчали.
После долгого томительного ожидания собравшихся из церкви вышли священник и строгановский приказчик. Отец Никола осмотрел собравшихся из-под густых сросшихся бровей и гневно воскликнул:
— Хорошо потешили бесов, чада неразумные. Ой, хорошо потешили! — священник спустился с паперти к мужикам, подходил к каждому, пристально вглядываясь в глаза. — Неужто позабыли, сколь многие пакости от здешних бесов зимой претерпели? Гляжу, забыли!
— Да что ты, батюшко! Такое разве забудешь?
— Молчи, Ондрюшка! Не твой ли сорванец на купальские костры с девками бегал? Не ты ли его на мерзости языческие пущал? Али малой уже без отцова разрешения шастает, где удумается? — вспылив, Никола занес здоровенный кулак над головой углежога, но, смиряя себя, стал сокрушенно креститься на купола: — Прости, Господи, не ведаю что творю! Вслед за священником собравшиеся мужики стали креститься, стыдливо пряча глаза.
— Прав, батюшка.
— Наша вина…
— Послабление большое дадено…
— Распоясал ися…
— Грех…
Пройдя за священником и видя мужицкое смятение, Истома, переведя дух, громко сказал:
— Хорошо, что грех свой понимаете! За то и за ваше смирение христианское Яков Аникиевич никого наказывать не станет, допросов и пыток не учинит! Похороны и поминки распорядился отрядить за свой счет, да так, чтобы все честь по чести.
Мужики одобрительно загудели, согласно закачали головами:
— Справедлив, Яков Аникиевич!
— Заступник!
— Многие лета здравствовать Строганову!
И только грузчик Терешка, приходившийся убитому дружком, злобно выкрикнул:
— Мертвому все едино, как его в землю зароют! Ты, Истома, лучше скажи, на кого за Федкину смерть вина ляжет?!
Собравшиеся недовольно загудели, зацыкали, закричали на грузчика:
— Да хоть бы и на тебя! Вон, какой ретивый!
— Сам, наверняка, ночкою с Колодесником через бесовские костры сигал, блудил, да девку и не поделил!
— Топерь для отвода глаз среди других виноватых ищет!
— Больше всех старается, а на воре и шапка горит!
— Или удумал, что нам Федки не жалко?
— Не проведешь!
В мгновение ока мужики скрутили ничего не понявшего Терешку, свалили на землю, принявшись ожесточенно мять бока.
— Православные, опомнитесь! — что было сил закричал отец Никола. — Отлучу!
Мужики покорно расступились, Терешка тяжело поднялся, вытирая разбитое в кровь лицо.
— За что, мужики? Я только спросить хотел…
— Вот она, бесовская работа! — закричал Никола. — Кровь-то на вас, маловерные, ляжет! Ишь, потеху нашли, без суда кровь пускать!
Истома подошел к грузчику и участливо положил руку на его плечо:
— Зря ты, Терентий, ей Богу, зря! А про виновных правильно вопрошал, ведом нам виновник! — Истома внимательно осмотрел замерших в ожидании мужиков. — На то треклятое место сам хаживал, да землицу руками перебрал. Вогулец там был подосланный, он-то Федку душегубил! На то все следы неоспоримо указывают!
Приказчик быстрыми шагами протиснулся среди мужиков и, взойдя по ступенькам паперти, крикнул:
— А ну, ти-ха!
Мужики замолчали, разом повернув головы на горделиво возвышающегося над собравшейся толпой Истому.
— Яков Аникиевич уже приказал снарядить два струга, да собрать отряд в пятьдесят человек. Ныне пойдем вверх по Чусовой. Пожгем маленько вогульские паули, да самих попытаем. Может, и про Федкину смерть яснее станет!
Глава 12. И не введи нас в искушение
Лес оборвался внезапно, рассыпавшись под ногами каменной грядою, тусклою, безжизненной, мертвецки серой. Позади — лес, впереди — камни, кругом — земля чужая, неприветливая. Карий осторожно ступил на подвижную, ускользающую из-под ног россыпь, скатывающуюся от малейшего прикосновения вниз каменными ручейками. По-змеиному откликнулось от соседних скал негромкое эхо, окликая Карего по имени. Камни замерли, вглядываясь в одинокого израненного путника. Вновь наступило неприступное безмолвие, не нуждающееся ни в голосах птиц, ни в шелесте листвы, ни в тихом шепоте сочащихся из-под земли вод. Только камни и небо, и человек, ищущий посреди них свою дорогу.
Светало. Красные отсветы густо ложились на бледнеющий восток.
— Джабир… — кто-то негромко окликнул со спины прежним, совсем уже позабытым именем. Данила оглянулся: против него стоял иссохший нищенствующий старик, дервиш, с тонким, истертым от долгих странствий, посохом.
— Здравствуй, сын… — голос старика дрогнул и на покрасневших, выцветших от ветров глазах дрогнули слезы.
Карий отвернулся и молча пошел прочь, оставляя за собой срывавшиеся с гряды быстрые каменные ручейки.
— Ты зовешься Даниилом, Судом Божьим, но не судией нарек тебя отец! — старик, спотыкаясь об острые выступы, падал, упрямо поднимался с колен, с трудом поспевая за стремительно удалявшейся от него тенью Карего. — Твое имя Джабир, что значит Утешитель.
Данила остановился и, не глядя на старика, крикнул:
— Оставь меня! Жизнь за жизнь, смерть за смерть! Теперь мы в расчете.
— Да не счеты сводить пришел к тебе, — запыхавшись, Солейман подбежал к Карему, с надеждой заглядывая в его глаза.
— Тогда что тебе надо? Говори и уходи, коли сочтемся.
Лицо старика дрогнуло, выдавая страдание бесчисленными бороздами морщин.
— Ты же мой сын…
— Ты лжешь, старик, — холодно ответил Карий. — Лжешь, проклятый работорговец из Кафы. У меня никогда не было отца.
— Я виноват, виноват перед тобою… отнял у тебя мать… — оправдываясь, старик украдкой вытирал набегавшие слезы. — Но я искупил свой грех, как мог: оставил дворец, богатство, женщин, стал дервишем. Ради тебя, твоего прощения, твоей любви. Так позволь мне, хоть за гробом обрести сына! Я буду хорошим отцом, охраняя тебя на всех твоих путях, очищать от грязи дорогу моего сына. Поверь, я недостойный отец, презренный нищий, смогу услаждать твою душу поэзией. О, это мудрое месневи, я не посмел бы оскорбить слуха моего сына недостойными, пустыми виршами! Вот послушай: