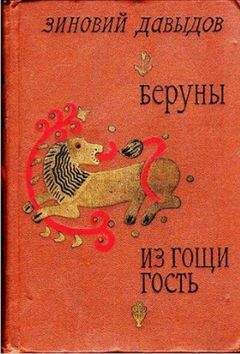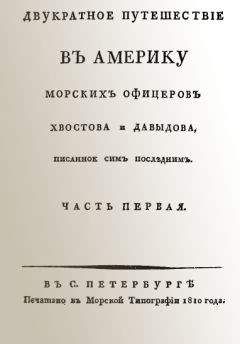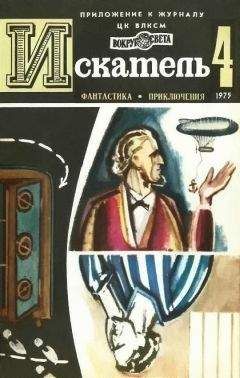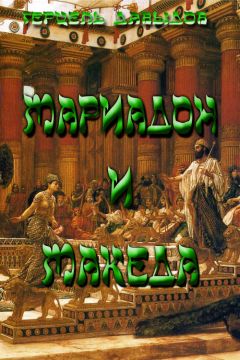Семен Пафнутьич пошел к гостинице, которая помещалась в трехъярусной избе на зеленом пригорке, а за выгорецким трудником шли беруны и валил народ. Весельщик Митя плелся позади и никак не мог понять, куда же все-таки девался ошкуй и как же теперь Степан без ошкуя. На крыльце Семен Пафнутьич, пропустив в дверь берунов, выискал в толпе Митю и позвал его в избу. И здесь, дав малому рыбник, стал за трапезою чинить ему допрос.
Митя пихал себе в рот куски рыбника и, когда проглотил последний кусок, стал выкукарекивать Семену Пафнутьичу выгорецкие новости. Сидит-де теперь Никодим Родионыч в Суме, лодью на Новую Землю снаряжает. И послал Никодим Митю из Сумы за якорем. И сказал: «Как поедешь за якорем, то забеги в Лексу и скажи там, что в пятницу буду». А в Данилове в кузнице сделан им якорь новый, тяжелый. А у Никодима Родионыча в лодейном покойчике стоит теперь чайник медный, невесть отколь взялся...
Семен Пафнутьич снова цыкнул на Митю и стал гнать его из горницы, но малый не хотел уходить и все льнул к Степану, изворачиваясь так, чтобы миновать рук Семена Пафнутьича. Тогда Семен Пафнутьич сунул ему ещё один рыбник. И пока парень запихивал тесто с начинкой себе в рот, стараясь не обронить ни крошки, Семен Пафнутьич вытолкал его в сени и запер дверь на крючок.
XXV. БЕГЛЕЦЫ ПРИЕЗЖАЮТ В ЛЕКСУ
Ранний рассвет чуть занимался над безлюдной еще Пигматской пристанью И было ещё влажно на заре, когда Семен Пафнутьич вышел босой, в одних портках на крыльцо и весельщик Митя стал запрягать лошадей в две телеги, которые он выкатил из-под навеса, распугав там кур, очумевших от столь рановременного разгона. Лошади – то ли от этакой рани, то ли от Митиной глупости – никак не становились в оглобли, входя туда передними ногами, выходя тем временем задними и вертясь на месте. Семен Пафнутьич ругнул Митю обалдуем и пошел сам запрягать буланую, пока Митя топтался с гнедой.
Беруны тоже встали и посреди двора, у водовозной бочки, плескали водою в заспанные рожи. Они все поднялись до поры, чтобы в Лексе застать Никодима. Он обещался быть там в пятницу, а ныне уже суббота вставала над миром. И две телеги шибко покатили по той же дороге, по которой накануне Митя-весельщик проскакал воробьем. Парень ещё в Пигматке норовил устроиться в одной телеге со Степаном, и это удалось ему, пока Семен Пафнутьич лез к Тимофеичу, путаясь в своем необъятном, с чужого плеча, армяке. Митя был счастлив и кукарекал всю дорогу. Степан тыкал его пальцем в брюхо, и смешливый Митя, боявшийся щекотки, даже всхлипывал от возбуждения и начинал икать.
Заря на первых порах подрумянила придорожный сосняк, потом позолотила околицу в Лексе и стала гнать горячие потоки ярого света вдоль улицы, по которой резвой рысью бежали пигматские лошади, чуявшие стойло и сладкий овес, полною мерою засыпанный в корыто. Мелкая пыль, поднятая колесами, шла вверх к белому дыму, реявшему над хлебной и поварней. Плотники, медники, сапожники – каждый на свой лад – выстукивали молотками по своим закутам. С крыльца счетной избы перегнулся за перильца Никодим, и острый его глаз из-под косматой брови не мог объяснить ему, что это валит к ним за чучело в закрывшей всё лицо шляпе. Уж не новая ли комиссия жалует опять из Петербурга, хотя от последней они отделались только в прошлом году, и немалыми деньгами?
Но это была не комиссия, и никто пока не зарился на полновесные выгорецкие рубли. Телеги остановились у крыльца, и когда чучело слезло с воза и сняло с головы посеревшую от пыли поярковую шляпу, то это оказалось и не чучело вовсе, а Семен Пафнутьич, старший трудник, стоял, как живой, перед Никодимом. А за ним с воза лез – ну, кто бы мог подумать! – Алексей Тимофеич, старый берун, вывезенный прошлым летом с пропащего острова им же, Никодимом. И другие два тоже соскочили с телеги, и все они обступили Никодима и пожимали ему руки, и правую и левую, кто за какую ухватит.
– Никодим Родионыч!.. Миленький!.. Голубчик!..
И старый Тимофеич целовал Никодима и в губы, и в щеки, и в плечико, и в бороду.
– Медведя нету! Не приехал медведь. Не привезли!.. – кукарекнул на всю улицу вислоухий Митя.
Но Семен Пафнутьич даже не цыкнул, а только поглядел на Митю, но так, что малый шарахнулся от него, пролез под брюхом лошади и притаился за телегой, пока Семен Пафнутьич с Тимофеичем объясняли Никодиму, что все они четверо в бегах, и как такой случай с ними вышел, и как из такого, можно сказать, ада каждого из них вынесло целым, живым и невредимым.
Никодим сочувственно качал головой, трепал беглецов по плечу, ответно улыбался Тимофеичу и соображал что-то про себя. Потом все пятеро пошли в избу, а Митя остался на улице раздумывать, каким способом ему сразу на двух телегах махнуть в конец улицы, в раскрытые ворота конского двора.
Никодим и Семен Пафнутьич вместе с Тимофеичем и Ванюхой, со Степаном и вёсельщиком Митей выехали в тот же день в Данилов, где ночевали, а наутро, погрузив с собою новый якорь, стали в карбасах спускаться вниз по Выгу. Тимофеич без раздумья согласился за себя и за Ванюху идти с Никодимом на Новую Землю, куда звал их всех троих Никодим, а Степан тоже не раскидывал долго: был он теперь бобыль бобылем, не было у него ни кола, ни двора, ни жены Настасьи, да и сам он, собственно, находился в бегах. Ну, а плавать по морям, колоть копьецом зверя, мокнуть в соленой воде и ежиться от холода было их природное дело. Это тебе не сидение в медвежьем остроге в беруновом одеянии, шутом гороховым, курам на смех. И потому не без волнения нюхали они ветер с моря, порывами налетавший от Сороки и Сумы. Они переходили тогда с парусов на весла, и ветер гладил им затылки и точно большими опахалами овевал им мокрые спины.
– Тимофеич, – скалил зубы Степан, – Бухтею до Новой Земли не достать?..
– Ку-уда... – тряс бородою Тимофеич и налегал на весло.
Зеленые луга огромными изумрудами блестели на солнце, и жемчужное облако гляделось в бирюзовую воду. Большое небо было шелковым шатром раскинуто над большою водою Выг-озера, и бесчисленные островки с путевыми хижинами казались иногда стадом, вышедшим к водопою. Тимофеич щурился на солнце, улыбался и даже пробовал мурлыкать в мохнистую свою бороду что-то вроде многолетия, как делал он это на Малом Беруне всякий раз, когда казалось ему, что это ещё не гибель, что есть надежда.
Его даже однажды в карбасе так разморило, что он взял на полный голос:
– Мно-гая лета!..
Но старик наткнулся на недоуменный и укоризненный взгляд Семена Пафнутьича и сразу умолк.
Пороги, волоки[77], ночлеги следовали один за другим, и благодатная тишина разливалась повсюду. Тихо было на плесах и в самой Сороке: весенняя сельдь сошла и тамошние промышленники ушли в Колу. Только белоголовые ребятки щебетали у воды, пуская оснащенные кораблики колыхаться по синим волнам. Возле деревеньки, словно сбежавшей с высокого берега к плесу, чтобы набрать водицы в ковшик, один такой мальчоночка в мокрых лапотках и с рубашонкой, хвостиком торчавшей у него из прорешины порточков, показал Тимофеичу на стоптанный башмачок, к которому он приладил игрушечный парус.