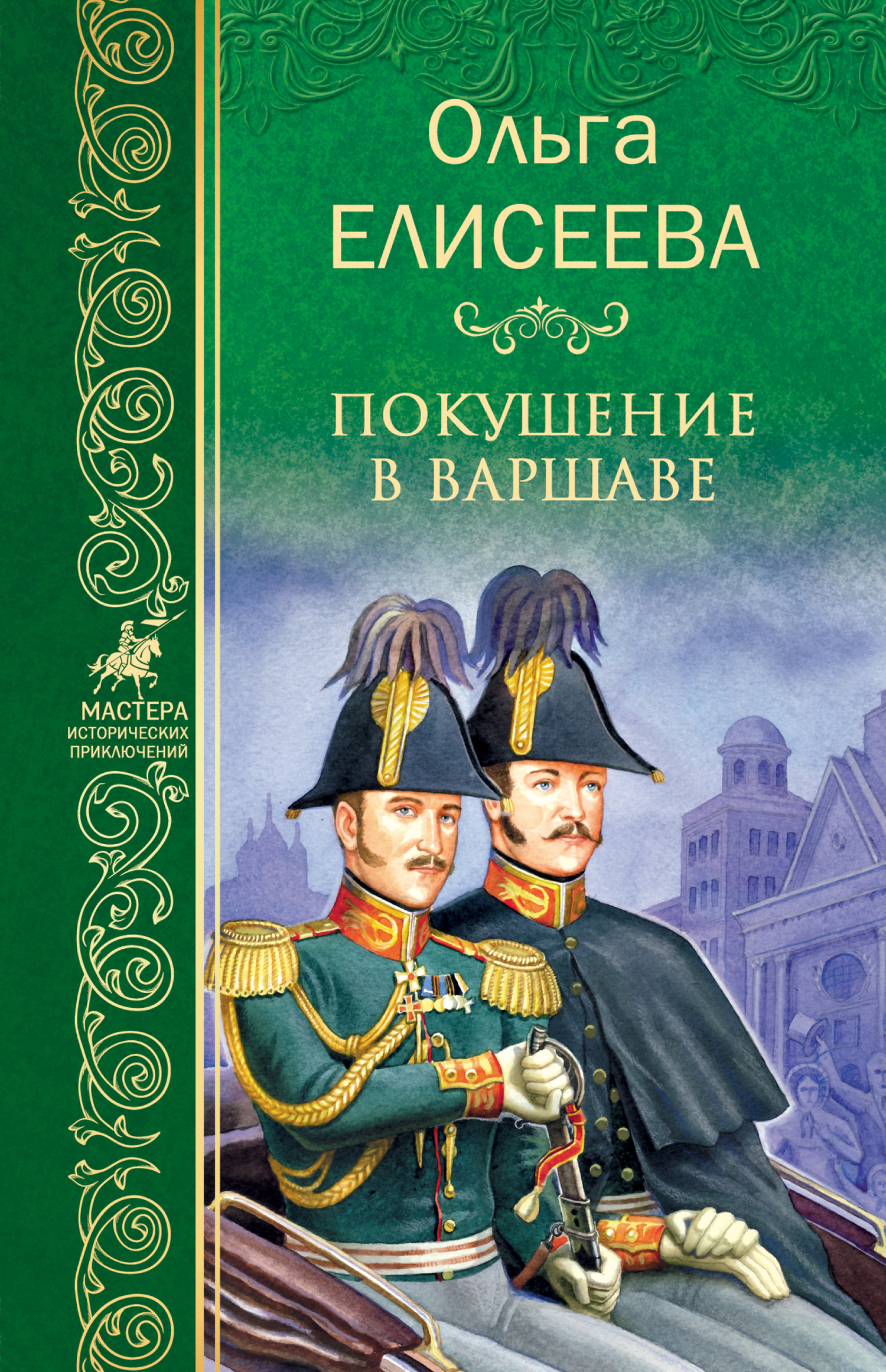ошибку и сам ее не заметит. Тогда похвалы обратятся в хулу. Вот и все. Ты зря расстроилась.
– Я расстроилась из-за Мориса, – призналась Анна. – Неужели он так переживает?
– Еще бы. Из сына героя он стал сыном палача. Да он сам себе бы сейчас руки не подал.
* * *
Мать и брат еще беседовали, приглушив голоса, чтобы он не слышал. Но Мориц и не хотел. Переживаяния сегодняшнего дня накатили на него, как прибой. Юноша ушел к себе в спальню, запер дверь и сел на кровать. Теплый воздух окутывал его с ног до головы, а он все вспоминал, как стоял под императорским взглядом – неподдельно строгим и вместе с тем удивленным, не злым. «Скажи, за что ты меня ненавидишь?»
Мориц был готов расплакаться. Он мог бы в деталях объяснить все, что русские сделали с его бедной родиной. Обобрали до нитки. Сожгли сядзибу [84]. Привязали к позорному столбу и, как холопы пленную шляхтянку… Такого простить нельзя. Забыть нельзя. С таким позором как жить? Ведь это мать твою пустили по рукам под солдатский гогот.
Но «что я как человек сделал тебе – другому человеку?» Юноша еще немного подышал, а потом полез в окно. Он не хотел, чтобы дома знали о его отсутствии. Ну, спит и спит. А самому до одури желанна была эта ночь – хотелось брести по дорожкам парка, упасть где-нибудь, приникнув головой к траве, и слушать, слушать поздних соловьев, ощущая, как из-под опущенных век ползут на щеки теплые слезы.
Мориц вылез на карниз, прошел немного и, держась руками за медную водосточную трубу, соскочил в сад. Сколько раз он так делал! Никто не всполошился. Юноша быстро перебежал лужайку под сень английских кленов, бросавших резные тени на дорожку. Пошел по ней. Вон та лавочка. Потом откос. И беглец на месте своего тайного ночного блаженства: он и весь мир в кружении светил над головой.
Но вдруг сзади его кто-то схватил. Не ударили по затылку, а зажали рот и нос омерзительно пахнущим платком.
Морицу показалось, что он открыл глаза в следующую секунду. Сначала пленник ничего не увидел. Но по неприятному щекотанию холста понял, что на голове у него мешок. Руки были связаны. Под задом чуть тряслось и подскакивало на ухабах сиденье. Он в карете.
– Варшаву плохо мостят. – Голос принадлежал человеку, который двумя пальцами сдернул с головы юноши мешок. А потом обеими руками развязал платок, которым Морицу перетянули рот.
Света не было, но сквозь опущенные окна экипажа внутрь входила уличная темнота, изредка прорезаемая уличным сиянием фонарей.
– И плохо освещают даже центральную часть. Мы возле Трех крестов. Похоже на сердце города?
Несмотря на сумрак, Мориц хорошо узнал того человека. Он сидел напротив, один, и холодно смотрел на юношу, не торопясь развязывать тому руки.
– Государь велел мне с вами примириться, – выдавил генерал. – Ведь вы хотели меня убить.
Мориц поерзал, всем видом показывая, что, если хотят поговорить, руки не связывают. Но Бенкендорф проигнорировал его немые ужимки.
– Итак, вы хотели меня застрелить.
– И сделал бы это снова, – презрительно бросил Мориц
– Почему?
Юноша задохнулся.
– А вы полагаете, большое счастье иметь такого отца?
Александр Христофорович пожал плечами.
– Мои дочери не жалуются. Падчерицы тоже.
Пленник недоверчиво боднул головой.
– У вас есть дети? – Эта подробность не ложилась в образ, как если бы у манекена для платьев вдруг отросла человечья нога. – Падчерицы?
Бенкендорф пожал плечами: мол, почти у всех есть.
– После войны было много сирот. Мы потом уточняли, их отца убили под Смоленском. В первые же часы наступления неприятеля. Вам напомнить, кто шел в авангарде французов? Ваши же соотечественники. Так что сиротами мои падчерицы стали от польской сабли. – Он помолчал. – А мой другой побочный сын, Жорж, сейчас в Москве. Там ваших соплеменников очень помнят. Мародерство, грабеж, расстрелы пленных, поиск фуража, так что потом вся семья висит на воротах дома. Словом, черная работа, которой французы сами брезговали.
– Я вам не верю, – отозвался Мориц.
– Вольному воля, – вздохнул Бенкендорф. – А поспрашивать стоит. Всего вам, конечно, не расскажут. Но обмолвками узнаете достаточно. Я-то в партизанском отряде как раз запирал дорогу из Москвы и всякого насмотрелся. Не буду говорить даже, во что вы превратили наши храмы в Кремле. Сам опечатывал.
Мориц не справился с удивлением.
– Вы командовали партизанским отрядом?
Бенкендорф хмыкнул.
– А вы думали, мне эти игрушки, – он скосил глаза себе на грудь, где непарадным образом красовались всего пара звезд, пять крестов, медаль за взятие Парижа, Георгий на шее и Александр Невский у плеча, – повесили за то, что я пленных в обозе расстреливал? Нет, с этим успешно справлялись и ваши соотечественники. А вот отбивать пленных приходилось. Однажды мои донцы с наскока взяли живыми человек тридцать, все поляки. А вокруг до двух тысяч наших пленных с разбитыми прикладами головами. Кормить-то нечем. Мозги по снегу. Вам рассказать, что донцы сделали с этими конвоирами? Или сами способны вообразить?
Он, наконец, взялся за веревки и освободил потрясенному Морицу руки.
– Не вообразите. Вы мальчик из хорошей семьи. Такого даже в книжках не читали. Да и я не хотел бы видеть. Но пришлось. – Бенкендорф вздохнул. – Запомните твердо: если начнем мериться кровью, не уверен, что ваш счет выйдет длиннее. Да и надо ли теперь?
– Я не хотел стрелять в вас, – выдавил из себя Мориц. – И ни в кого не хотел. Просто ходил с пистолетами… – Он понимал, что его слова звучат жалко. Но собеседник как-то сразу поверил ему.
– Хоть раз в человека стреляли?
Юноша покачал головой.
– Я еще не был на войне.
– И не надо, – заверил его генерал. – Туда никому не надо. Знаете, как я рад, что у меня дочки? Женщины рожают детей. А мы что можем? Только голову снести. Плохое это дело.
Теперь, походив с пистолетами, Мориц был готов согласиться.
– Вот государь даже в животных стрелять не любит. На охоту не ездит. На Дунае под пулями ходил, а сам стрелять так ни разу и не взялся.
Совсем неожиданное, лишнее, даже вредное знание про царя. Да и про самого шефа жандармов тоже.
– А вы любили мою мать? – неожиданно для себя спросил Мориц. То есть этот вопрос он с самой первой минуты, как только увидел Бенкендорфа на приеме, держал в голове. Но вовсе не думал, что спросит вслух.
Александр Христофорович даже крякнул. Любил ли он Яну? Жоржину, пожалуй, сильнее. Но это ли хочет услышать побочный ребенок?
– Вы дитя очень сильного чувства, – сказал он, глядя сыну прямо в глаза. – Вот все, что вам надо знать.
– У вас много других сыновей? – продолжал настойчивый расспрос Мориц.
Александр Христофорович пожал плечами.
– Не знаю. Трудно сказать. Ты второй, о ком известно точно. Я начал воевать в твоем возрасте. Поэтому… – он сделал неопределенный жест рукой.
– А что ваш сын делает в Москве? – Морица так и подмывало спросить: «А он на меня похож?» Но юноша не решился.
– Встречает персидское посольство, – отозвался не проследивший за подоплекой его мыслей отец. – У нас в Тегеране убили посла. Тамошний принц отправил своего сына с извинениями. В том смысле, что жизнь за жизнь.
Мориц открыл рот. Какие все-таки