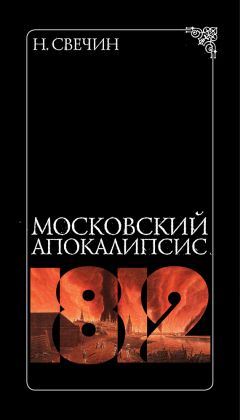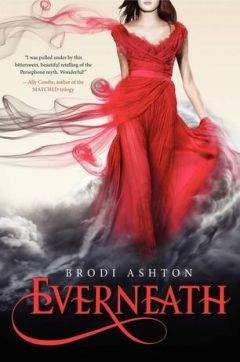Фёдор Васильевич Ростопчин всегда открещивался от авторства идеи Московского пожара. Иногда, правда, намекал, что без него тут не обошлось, но чаще увиливал… Это удивляло, например, Пушкина: как можно отказываться от такого подвига? Споры о том, кто сжёг Москву, продолжаются до сих пор. Мне эти дискуссии кажутся странными. Что же ещё могло случиться с городом, преимущественно деревянным, из которого ушли население, пожарные и полиция, а пришли чернь и голодные мародёры? Как такой город мог не сгореть? У Московского пожара нет одного автора — их тысячи.
Вернувшись с Поклонной горы к себе, Ростопчин продолжил энергично распоряжаться. По его приказу были заперты все кабаки. Архиерею скомандовали выехать из города и увезти с собой чудотворные образы Богоматери: Казанскую и Иверскую. Опасались, что возбуждённый народ не позволит сделать последнее — возле икон даже выставлялись стихийные караулы. Но теперь людям стало не до Бога; изъятие икон прошло благополучно.
Ростопчин в страшной суматохе последнего дня успел сделать ещё одно важное дело. Скопив возле застав пятьсот реквизированных телег, он вывез из госпиталей на Волгу 25 000 больных и раненых. Нетранспортабельных пришлось оставить в Москве. Сколько их было — никто не знает. Граф называет цифру в две тысячи человек, французы — в десять тысяч. Истина, видимо, где-то посредине. Почти все эти несчастные погибли в огне…
Вечером Ростопчин получил от Кутузова просьбу срочно прислать в армию шанцевый инструмент. В Дорогомилово начали рыть окопы. Обрадованный генерал-губернатор направил туда десять телег с лопатами и заступами. Командовавший обозом офицер долго искал, кому передать инструмент, и все гнали его прочь. Кончилось тем, что из повозок выпрягли и украли лошадей. Команда вернулась в Москву пешком, бросив телеги вместе с лопатами.
Вскоре после этого Ростопчин получил ещё одно письмо от фельдмаршала. Тот сообщал, что военный совет принял решение сдать Москву, и требовал прислать к нему полицейских офицеров. Те должны были провести армию через город так, чтобы колонны не застряли в его тесных улицах.
Ростопчин выполнил и это распоряжение. В ночь с 1 на 2 сентября он собрал у себя секретное совещание, от которого не осталось никаких документов. На нём генерал-губернатор заявил, что хочет оставить в Москве для наблюдения и разведки шесть офицеров-добровольцев. Таких отыскалось лишь пять, шестого графу пришлось назначить. Эти смельчаки исправно выполняли свою задачу в дни оккупации. Все они дожили до изгнания французов и получили от государя щедрые награды…
Также полицейские офицеры получили задание уничтожить запасы, которые не успевали вывезти. Приказ был выполнен. Уже на глазах у французов сгорели Винный и Мытный дворы со всем их содержимым, а также казённые барки с зерном, застрявшие возле Красного Холма и Симонова монастыря. Эти поджоги дали сигнал к Московскому пожару…
Последними, уже 2 сентября, из города ушли полиция, пожарная команда со всеми 64 огнегасительными трубами, и Московский гарнизонный полк. Одна из его рот гнала по этапу арестантов Бутырского тюремного замка. Не менее 50 колодников сумели сбежать и приняли активное участие в разграблении Москвы. Французы во множестве встречали их на улицах в первые дни нашествия.
Пробиваясь к заставе через плотные колонны войск, Ростопчин встретил на Яузском мосту Кутузова. В ответ на поклон тот заявил генерал-губернатору:
— Могу вас уверить, что я не удалюсь от Москвы, не дав сражения.
Граф махнул рукой на старого враля и умчался.
Так Москва была вручена неприятелю. Из 300 000 её населения остались лишь 30 000. Это были те, кто не сумел или не захотел убежать. На их долю выпали страшные испытания. Я, как смог, описал их в своей книге, но действительность была ещё ужаснее. В качестве одних только поджигателей французы казнили более 1000 человек; большинство из них были невиновны.
Пожар, уничтоживший город, казался несчастным людям концом света… Потом были ещё сорок дней оккупации, голод, бесчинства мародёров, расстрелы, бесправие, отсутствие какой-либо личной безопасности. Когда в Москву вернулась русская власть, она застала жуткую картину. Вот как её описал мемуарист: «Между трупов и развалин блуждали жители Москвы, проживавшие тут с неприятелем; бледные, тощие, и закоптелые лица их являли все их страдания; но взоры зверские наводили повальный ужас… Беспрерывные страдания и напряжение от ужаса сделали их самих свирепыми и ужасными».
Всё устроилось заново. На улицах опять появилась полиция, вернулись из эвакуации беженцы, открылись осквернённые храмы. Но остались сожжённый город и в нём — навсегда напуганные люди.
Вчитайтесь в воспоминания простого московского обывателя, родившегося уже после войны с Наполеоном:
«Первое, что поразило моё воображение, это картина полного разорения моей родины, не изгладившееся до 1826 года… По улицам, от дома священника до конца, тянулось пустое пространство, на коем между пустырей было не более двух-трёх домов; противоположная сторона улицы представляла одно зрелище пустырей и пожарищ, кое-где огороженных заборами, где виднелись два небольших дома; так что из окон дома отца моего, начиная от Калужских ворот до Донского монастыря, открывалось взорам необъятное пространство разорённой и погоревшей местности, где только торчали трубы и развалины стен.
Хотя со времён французского погрома прошло не менее четырнадцати лет, но память о том до того была жива в народе в описываемое время, что как будто тому прошло не более года; всюду, в домах и на улицах, иных разговоров не было, как о 12-м годе, у всех при встрече, после первых приветствий, разговор тотчас переходил к ненавистным французам, да и не удивительно: следы опустошений, произведённых ими, были ещё перед глазами и поневоле вызывали в памяти минувшие бедствия».
Четырнадцать лет прошло! Случилось столько новых событий. Новый государь уже повесил декабристов, а москвичи могут и продолжают говорить только о пожаре… Вот какое выпало им испытание. Да, потом оно забылось. На пепелище выстроили, в конце концов, новый город. Умерли люди, помнившие страшное зарево Московского пожара. Раны зарубцевались. Жизнь взяла своё.
Все даты в книге даны по старому стилю.
Лишение дворянства сопровождалось гражданской казнью, при которой над головой осуждённого ломалась шпага.
Шифтан — кафтан, армяк (жарг.)