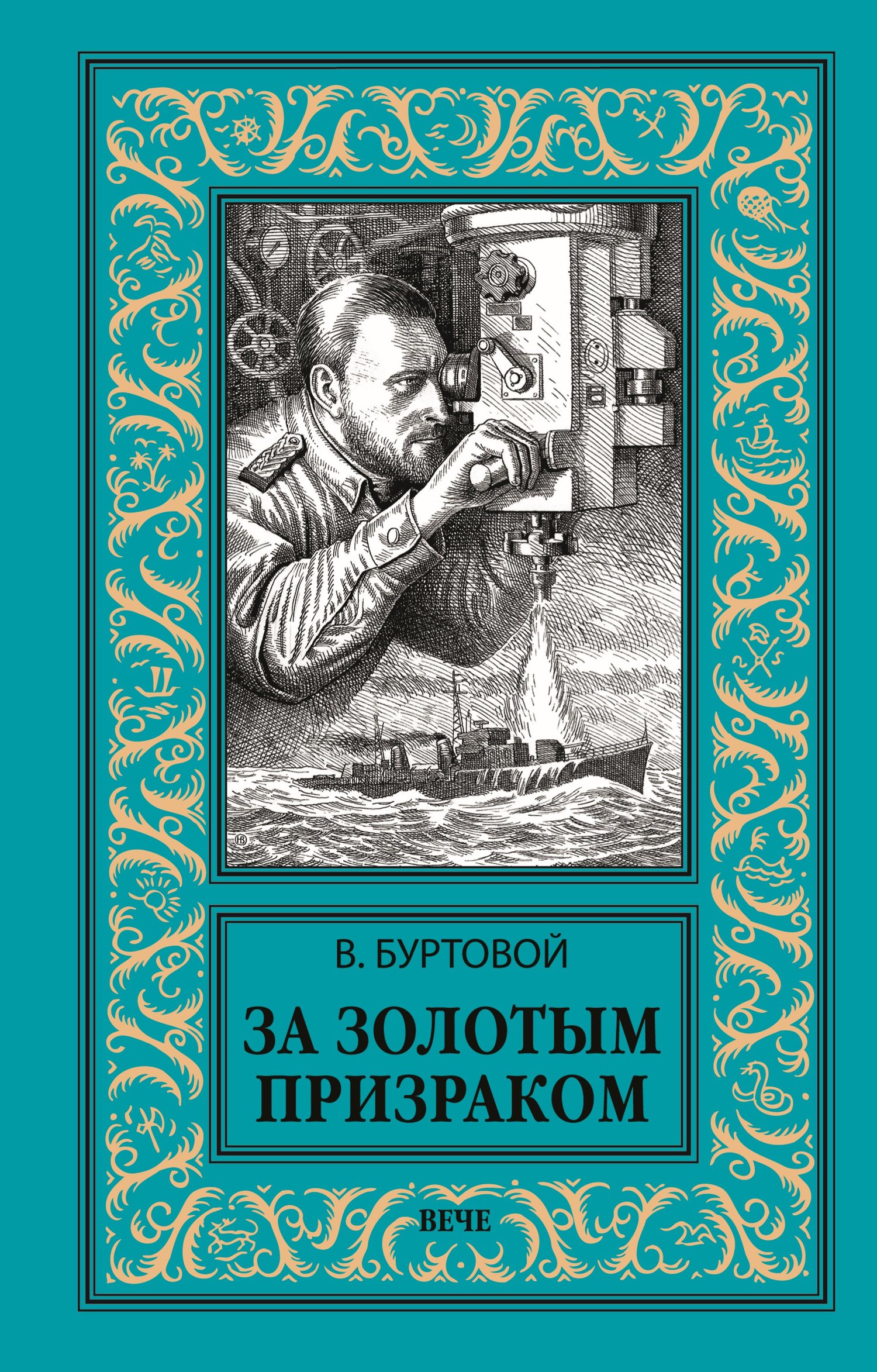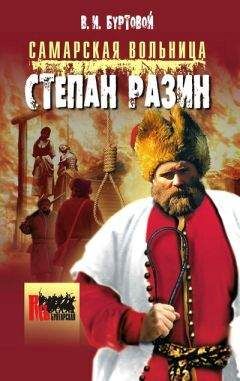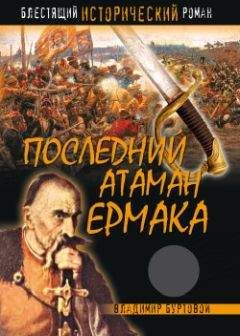когда она приняла решение вернуться к родительскому дому с заездом в Москву, чтобы у тетушки найти поддержку перед великим государем и царем Алексеем Михайловичем в вопросе решения дальнейшей судьбы монашки Маланьи.
– Отчего же… княжна Лукерья! Признала! Хотя в словах старого Серафима сразу не сыскала веры, думала, что сослепу померещилось старому дураку. Знать, явилась сызнова в Москву… И где тебя носило по земле эти четыре года, что никакой сыск не мог найти даже малого следа беглой княжны Мышецкой? Как посмела оставить монастырь и нарушить обет, данный Господу?
– То долгий разговор, княгиня Просковья, не одной фразой обойтись нам. Ежели есть у вас желание выслушать меня и узнать все, что случилось с «беглой», как вы изволили сказать, княжной Мышецкой, дайте приют мне и моим слугам на два дня. А нет желания и терпения слушать – мои кони еще не распряжены, дорогу к родительскому дому в Калуге я знаю. – Голос княжны Лукерьи прозвучал столь резко и непокорно, что старая княгиня на какую-то минуту лишилась дара речи, потом поняла, что разговор на эту щекотливую тему о возвращении в монастырь надо вести не с порога, хлопнула ладонями. На ее зов явилась ключница, сухонькая и юркая, словно амбарная мышь, увидела княжну Лукерью, ахнула от радости, хотела, было, что-то сказать, но под суровым взглядом хозяйки смешалась, только трижды поясно поклонилась.
– Приготовь, Марьяна, княжне светелку. Прими служанку и кучера, помести отдельно в прирубе. Коней вели конюху Карпу принять и задать овса. Да баню истопить с дороги. – Отдав такие распоряжения, княгиня Просковья снова обратила все еще строгие глаза на княжну Лукерью, как бы продолжая сомневаться, что перед нею ее племянница, так негаданно пропавшая из монастыря и вот теперь так нечаянно объявившаяся снова в Москве. Не то диво было для старой княгини, что объявилась Луша, а то диво, что тело явилось то же самое, а вот душа у княжны будто из иного, не покорно монастырского «теста»…
– Переоденься, на тебе невесть какой наряд, не враз поймешь, девку или парня перед собой видишь, срамота несусветная, да и только. Видела бы тебя теперь твоя матушка, заново в гроб бы упала со сраму за дочь!
– В дороге так удобнее, тетушка Просковья. Приходилось ночевать на постоялых дворах или у чужих людей… – Княжна Лукерья тоже смягчила голос, решила, что лаской и добротой она лучше умаслит суровость старой княгини и попытается привлечь ее на свою сторону, понимая, что без ее старания никогда не сможет освободиться от обета монастырского послушания.
– Срамота какая! – вновь вскипела княгиня Просковья. – Княжеская дочь ночует на постоялых дворах, как… как, – и она запнулась на оскорбительном слове, которое едва не слетело с ее от гнева побелевших губ. Княгиня сжала пальцы в тугой кулак и довольно сильно стукнула им по столешнице, отчего фарфоровая голубенькая чашка подскочила и, падая, звякнула о широкое, тоже голубенькое блюдце. Вынужденная сдержаться, княгиня закусила губы от досады.
– Как гулящая девка, не так ли, тетушка? – с насмешливой улыбкой досказала за тетушку княжна Лукерья. – Или как беглая из монастыря служка? Коль вам охота ругать меня, милая тетушка, так вы в словесах не стесняйтесь! Пребывая два года среди разудалых молодцев Степана Разина, мне всякие словечки и намеки доводилось выслушивать в свою сторону. А в Астрахани одному охальнику кинжал в живот воткнула, когда надумал лапать меня, словно я и вправду гулящая девка их общества, не вылезающая трезвой из кабаков, готовая лечь за гривенник с любым кобелем в просторных шароварах, да еще и при кривой сабле на поясе…
– Ох, Господи, спаси и помилуй! – княгиня Просковья вскинула белые, с длинными пальцами ладони к щекам, а в глазах появился искренний испуг, тот испуг, который обычно посещает людей, ничего страшнее в жизни не видевших, кроме случайно забежавшей в горницу мыши. – Неужто… и вправду человека порешила… своей рукой? И Господь не разразил тебя громом, карающим на месте?
– Чужой руки при себе тем часом не сыскалось, довелось своей рукой угомонить пьяную рвань! Неужто уцелела бы я в той страшной круговерти, куда волей Господа, не иначе, занесло меня? Ну, да об этом, сказала я, в свой час покалякаем, – резко оборвала разговор княжна Лукерья, повернулась к ключнице. – Проводи, Малаша, до светелки, устала я с дороги, да и переодеться надо. Скажи моей девице Дуняше, чтоб скарб мой принесла из возка, – и, как в собственном доме, уверенно пошла по лестнице наверх, в комнату, в которой они обычно останавливались с родимой матушкой, наезжая в зимние месяцы погостить в Москву.
Княгиня Просковья в некотором замешательстве постояла с минуту высоким черным столбом напротив иконостаса, покачала в раздумье головой, пробормотала негромко:
– Надо же, что с девкой сотворилось! Из покорной монашки в человекоубивицу обернулась! – и пошла сама распорядиться насчет служанки и кучера так негаданно свалившейся ей на голову строптивой племянницы, неизъяснимым чутьем заранее предвидя, что вновь водворить ее в монастырь будет не так-то просто.
– Чует мое сердце – упрется Лукерья, что рогатый козел перед чужими воротами, не протолкнуть будет сызнова в узкую келью – вдоволь погуляла девка на воле, чужих блох нахваталась, каких и банным веником не сразу выпаришь!
Приняв баню и сытно отобедав, княжна Лукерья удобно разместилась в углу широкой лавки, подложив под спину мягкую подушку. Княгиня Просковья полулежала на кровати, готовая слушать рассказ племянницы о своих странствиях после того, как сбежала – так она была, по крайней мере, уверена – из Вознесенского монастыря, который, как сказывали знающие люди, был заложен вдовой великого князя московского Дмитрия Донского и стал усыпальницей великих князей, цариц и царевен.
Княжна Лукерья решила говорить о своем побеге из монастыря точно так, как она говорила с князем Иваном Богдановичем Милославским, не признаваясь, что покинула монастырь и ушла с тезиком Али, чтобы не быть более в монашках, да простит ей Господь этот тяжкий грех, но ежели в душе человека нет искреннего желания отдать свою жизнь служению Господу, то и проку от его всечасных молитв будет немного.
– В тот роковой день, помнится, было несносно жарко. Я долго бродила по кремлю, собирала подаяния прихожан на монастырские нужды. Мимо меня несколько раз прошел иноземец, лицом молод, красив, а главное, что я приметила, смугл, стало быть, либо хорезмиец, либо перс, а с ним толмач из Посольского приказа. Остановились неподалеку от меня, о чем-то потолковали, позже толмач подошел ко мне и сказал, что сей персидский тезик стоит обозом в Китай-городе и пожелал сделать нашему монастырю изрядное подношение – кусок