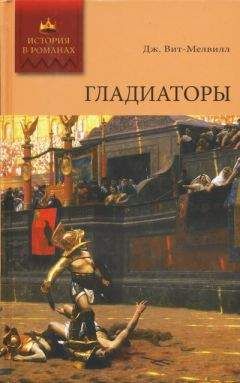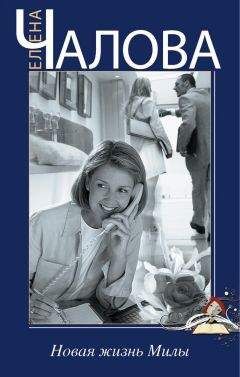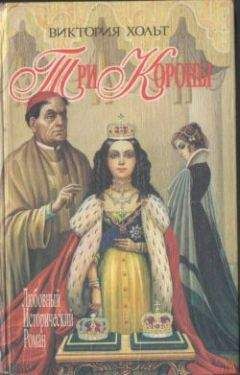Несмотря на воинственный вид оружия и осанки, лицо стража было красиво и нежно, как лицо женщины. Светлый пушок едва лишь показывался на его подбородке, и золотистые кудри распадались из-под каски по его шее. В светло-голубых глазах было кроткое, неопределенное выражение, когда он небрежно смотрел вокруг себя. Но уже издавна римляне знали, что эти глаза умеют метать молнии в ту минуту, когда скрещиваются сабли, и выражать непобедимую ненависть и вызов, когда смерть делает их неподвижными.
При виде этого стража-варвара Эска испытал чувство симпатии и расположения к нему. Это последнее чувство, быть может, подсказало ему план, с помощью которого он мог бы пройти во дворец. Остановившись в нескольких шагах от часового, который поднял голову и крикнул «Кто идет?», лить только услышал шум шагов, бретонец отстегнул свою саблю и бросил ее между собой и стражем, чтобы показать, что он просит покровительства и не имеет враждебных намерений.
Тот пробормотал на своем языке какие-то непонятные слова. Было ясно, что он не знал латинского языка и что разговор им нужно вести только знаками. Впрочем, это не осложняло, а уменьшало трудность, и Эска с облегчением заметил, что германец не подумал сзывать товарищей или прибегать к насилию.
Часовой, казалось, ничуть не боялся одного человека, кто бы он ни был — друг или враг, — и благосклонным взором смотрел на наружность Эски, имевшего фамильное сходство с его соотечественниками. Он позволил ему подойти к себе, спрашивая его посредством знаков, на что бретонец отвечал подобным же образом, совершенно не зная их значения, но горячо надеясь на то, что результатом всех этих таинственных жестов будет пропуск его внутрь.
В таких обстоятельствах эти два человека не способны были понять друг друга. Через минуту германец казался совершенно сбитым с толку, и он сказал на своем языке пароль соседнему человеку, видимо подзывая его к себе. Эска слышал, как это же самое слово было повторено много раз, пока, наконец, шум не смолк под деревьями. Там, без сомнения, был отряд стражи, поставленный вокруг дворца цезаря.
Между тем германец запретил Эске приближаться к его посту на длину своего копья, отстранив его задним концом этого оружия, хотя и с благодушным видом, и не позволил ему поднять и снова подвязать саблю. Он делал при этом те же знаки, выражавшие сердечность и дружбу, но, хотя Эска отвечал ему с тем же жаром, однако он ни на шаг не приблизился к внутренности сада.
Вдруг тяжелый шаг вооруженных людей донесся до его ушей, и центурион, в сопровождении шестерых солдат, показался у дверей. Вновь пришедшие и по росту, и по лицу были очень похожи на позвавшего их часового, но их начальник говорил по-латыни, и Эска, успевший обдумать свой план, не колеблясь отвечал на вопрос германца-центуриона.
— Я из твоей дивизии, — сказал он, — хотя я из более далеких стран севера, чем твой отряд, и говорю на другом наречии. Нас распустили только вчера по письменному приказу цезаря. Оказалось, что этот приказ был фальшивым. Мы расселись по римским тавернам, но глашатай, делавший обход, увидел меня, приказал мне вернуться и немедленно занять свой пост. Он сказал, что мы должны собраться в окрестностях, найти пост во дворце и присоединиться к нему до возвращения наших начальников. Я простой варвар, я почти не знаю Рима, но ведь дворец здесь? И ты ведь центурион германской стражи?
Говоря эти слова, он стоял вытянувшись, отдавая солдатскую честь, и центурион, не сомневаясь, поверил его басне, тем более что известная часть войск цезаря была недавно распущена в тот момент, когда ее услуги казались в высшей степени необходимыми. Взяв оружие Эски, он сказал что-то на своем языке часовому и затем обратился к бретонцу.
— Ты можешь идти на пост, — сказал он, — мне не в тягость получить еще несколько человек из нашей же компании. В эту ночь, наверное, нам понадобятся все люди, каких только мы можем собрать.
Проводя его через сады, он задавал ему много вопросов о силе противной партии, о состоянии города и вообще о настроении граждан в отношении Вителлия. Эска увертывался изо всех сил, пользуясь, когда было возможно, предположениями и в критических случаях оправдывая свое незнание тем, что все время после роспуска он провел в тавернах. Центурион поверил в это оправдание, так как знал вкусы и привычки своей дивизии.
Меж тем они подошли к огню бивуака, и, как ни незначителен был воинский опыт Эски, однако он тотчас же понял, какая огромная опасность грозит дворцу в случае нападения. Рослые германцы шатались и слонялись туда и сюда при свете пылающих головней, как будто они собирались здесь только для того, чтобы попировать, попеть и повеселиться. Вино текло ручьями, и кубки, из которых его пили, вполне соответствовали благородной жажде этих скандинавских борцов. Даже сами часовые по временам из-за прихоти или наглости оставляли свой пост, подходили к костру, громко хохотали, осушали полные стаканы и спокойно возвращались на свое место как ни в чем не бывало. Всякого новопришедшего они принимали с огромным удовольствием, так как видели в этом повод снова пить, и, хотя Эска был доволен, видя, что никто из них, кроме центуриона, не знал латыни и, следовательно, ему не нужно было бояться нового допроса, однако он понял, что они не пропустят его, прежде чем он не окажет им честь и не выпьет за их здоровье не один огромный кубок грубого и крепкого сабинского вина.
Рассчитывая на свою молодость и здоровье, твердо решившись не терять головы, бретонец согласился выпить этот солдатский долг к удовольствию угощавших. Минуты казались ему слишком длинными, но тем временем, пока германцы пели, пили и делали на своем языке замечания на его счет, он обдумывал свои планы. Он отлично знал, что объявить тотчас же, что ему известен заговор против цезаря, и потребовать от центуриона, чтобы тот провел его к императору, значило бы разрушить свое предприятие, возбудить сильное подозрение в том, что сам он убийца и союзник заговорщиков. Если бы он обеспокоил известием начальника, то, быть может, число часовых было бы удвоено и пьянство прекращено, но Эска ясно видел, что сопротивление стражи, находящейся внутри дворца, тем силам, какие приведет его старый начальник, будет невозможно. Единственным средством, остававшимся для императора, было бегство. Если бы Эска мог пройти к нему и лично говорить с ним, он, казалось ему, сумел бы склонить его бежать. Однако в этом-то и заключалась трудность. Не всякий, желающий видеть монарха в его дворце, может достигнуть этого, хотя бы даже речь и шла о его личном спасении. Впрочем, Эске уже удалось проникнуть внутрь садов, и успех воодушевлял его упорствовать в своем предприятии.