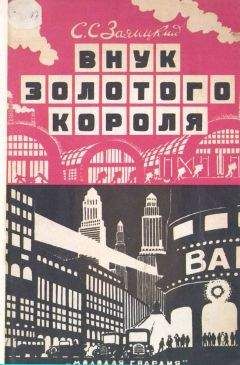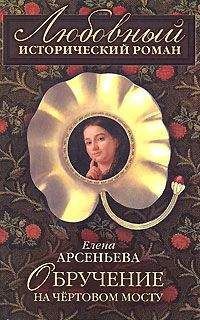«Ленинград» вышел на рассвете в открытое море.
Он прошел мимо неподвижной белой яхты, наполовину окутанной утренним розовым туманом.
— Хороший пароходик, — заметил капитан Моргунов.
— Недурная игрушка! — отвечал его помощник, Павловский. — Буржуазная штука.
«Ленинград» шел хорошим ходом, держа курс на запад.
Погода была чудесная.
Солнце только-что взошло и было еще сравнительно милостиво.
Утренний ветерок приятно обдувал, и море было гладко, как зеркало.
— Смотрите-ка, товарищ, лодка!
— И в ней трое.
— Двое белых и один негр.
— И машут нам.
— Надо посмотреть, в чем дело.
* * *
— Так, — сказал капитан Моргунов, выслушав историю Володи.
Он переглянулся с Павловским и развел руками.
— Чорт возьми, какое дело!
Он помолчал.
— Ну, тебя и еще, пожалуй, этого черномазого приятеля я смогу взять с собою... но вот его... Ведь ты пойми... меня же обвинят, что я детей краду у миллиардеров. Америка еще, чего доброго, из-за этого с Россией поссорится. Нет, парень, нельзя никак. Ни под каким видом.
И капитан по-английски сказал то же самое Эдуарду.
Тот стал мрачнее тучи.
В это время заработал радио.
Павловский пошел к аппарату и принял депешу.
— Ну вот, — сказал он, — уже! «Пропал Эдуард Ринган, сто тысяч указавшему, где он...» Все, как по-писанному.
— Видишь, — сказал Моргунов. — Ну. нельзя. Ничего не выйдет. Такая история.
Володя и Сам приуныли.
Про Эдуарда и говорить было нечего.
— Вот идет встречный пароход, — сказал Моргунов, — придется тебя на него пересадить. Пойми, не могу я тебя укрывать. Денег мне не надо, я не из-за денег тебя выдаю, а не могу. Дипломатия, братец! Торговые сношения наладились, нельзя нам сейчас с американскими дядюшками ссориться.
Павловский взял рупор и остановил встречный пароход.
Эдуард чуть не плакал.
Но когда он взглянул на судно, с капитаном которого переговаривался русский, он весь преобразился.
— «Кашалот»! — вскричал он. — Ну, капитан Джек меня не выдаст. Вот повезло-то!
Он бодро простился с Володей и Самом. При этом все всплакнули даже. Эдуард сел в шлюпку.
Но чем ближе подплывал он к «Кашалоту», тем удивленнее и мрачнее становились его глаза.
Капитана Джека, доброго капитана Джека, с красным, как слива носом, не было видно.
Вместо него на капитанском мостике стоял какой-то высокий худой моряк и сурово на него поглядывал.
— Мистер Эдуард Ринган, — произнес он, — пожалуйте!
Эдуард, красный и злой, оглядывал знакомые лица моряков.
Эх, если бы капитан Джек!
Но капитан Джек, как оказалось, был болен, и его временно заменял капитан Брамс, очень сухой и сердитый джентльмен.
Он насмешливо указал Эдуарду на одну из кают и мысленно поздравил себя с получением ста тысяч долларов.
Эдуард сквозь иллюминатор глядел на океан.
Вдали среди лазури, алея своим флагом, уплывал «Ленинград».
Уплывали его друзья — Володя и Сам. Уплывали куда-то, где, вероятно, им будет очень хорошо. А он? Он вернется снова к мистеру Томсону, который теперь удвоит, утроит за ним надзор. Шагу ему теперь не даст ступить.
Эдуард упал на койку и горько зарыдал.
В этот миг кто-то дернул его за ногу.
В Москве была зима.
Она была совсем не похожа на зиму в Сан-Франциско, где зимою только один раз на полчаса выпадает, и то случайно, снег.
Зима была белая, с трескучим морозом.
Марья Ильинична Улиткина простудилась и слегла.
Она жила теперь совсем одна, ибо Петр Иванович сидел в тюрьме за какое-то темное дело, в роде растраты, а Володя был неизвестно где. Далеко.
Денег у нее не было. Работать, больная, она не могла, и обед ей давала «из жалости» соседка.
Но соседка сама была почти нищая и потому, хотя и давала обед по доброте, но всегда при этом огрызалась.
Марья Ильинична, впрочем, и не ела почти ничего, ибо ее мучил сильный жар. В комнате было холодно, но ей все время казалось, что, напротив, слишком жарко, и когда она засыпала, ей снилось лето и что кто-то привязал ее к дереву на самом солнцепеке и не дает пить. Она будто может очень легко освободиться от веревок, стоит только ей сделать маленькое движение. Но как только она делала это движение, она просыпалась, а заснув, опять оказывалась привязанной к дереву.
Сквозь сон она слышала шопот:
— Пожалуй, умрет.
— Ну, конечно, грипп теперь, знаешь. Хуже тифу! Косит!
— Ох-ох-ох! Все люди, все человеки!
— Да ей и жить ни к чему!
Марья Ильинична не открывала глаз, ибо не хотела никого и ничего видеть. Лучше было так лежать и грезить. Уж если смерть, так скорее. И вдруг удивленный голос:
— Улиткину? Да вот она Улиткина. Батюшки! Это кто же?
Кто-то наклонился над ней.
Она открыла глаза.
Вот хороший сон: Володя. Давно не снился. Только зачем рядом с ним трубочист. И зубы у трубочиста такие белые.
— Мамочка, — произнес знакомый голос, — это ты что же?
Хороший сон.
Она уже не раскрывала глаз, чтоб не видеть трубочиста...
Потом вдруг открыла их и сразу поняла.
Володя вернулся.
— Володя!
— Я. Я... Я сейчас доктора. А он с тобой посидит.
И, показав ей на ухмыляющегося трубочиста, он выбежал из комнаты.
Доктор объявил: опасности нет. Сердце хорошее. Прописал лекарство.
Через неделю Володя уже стоял посреди двора среди почтительно слушавших его мальчишек. И рассказывал, и рассказывал.
А рядом стоял Сам, страшно черный на фоне белого снега, и умиленно поглядывал по сторонам, на дома чудесного города, где нет Бубби.
* * *
В одном из магазинов МПО в Москве особенно любят толкаться мальчишки. Им очень любопытно посмотреть на черного, совершенно черного негра, который развешивает сахар и крупу и улыбается так, что больно смотреть на его ослепительно белые зубы. Он говорит по-русски очень смешно, но уже отлично умеет читать надписи на коробках и жестянках.
— Сам, — кричат другие приказчики, — отпусти масла.
— Мясла? Кяряшё!
Недавно рассмешил всех один ребенок.
— Вон, мама, — сказал он, — какой этот гражданин черный, а его никто мыться не заставляет!
И вообще все дети уважают и любят Сама. И он тронут. В Америке белые учат своих детей презирать негров.
Недавно в магазин зашел молодой человек, должно быть, монтер, потому что из его сумки торчал электрический провод. Он пожал руку негру, и они заговорили на непонятном языке:
— Аоу-эо-ао...