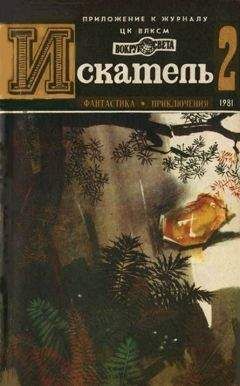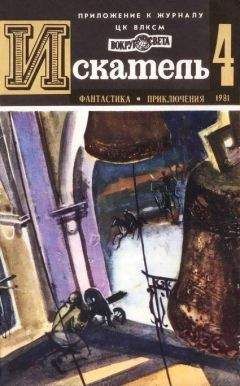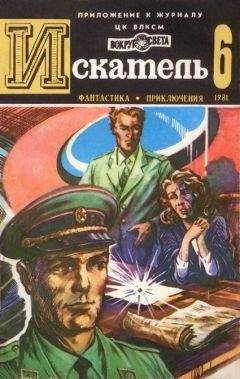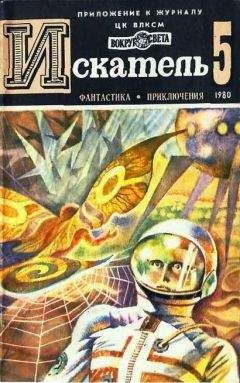Таня наклонила голову и покраснела. И Сизов понял почему: чувствовала себя неловко за те горькие слова, которые наговорила ему полгода назад на суде.
– Извините меня, Валентин Иванович, – сказала она, не поднимая глаз. – Но ведь вы сами…
– Чтобы ничего грустного! – весело воскликнул Саша.
– К сожалению, про войну не забудешь, – сказал Сизов.
Саша посуровел в один миг, потемнел, словно в нем вдруг выключили лампочку.
– Война! – повторил он. – Что ж война? – И оживился: – Война как раз того и хочет, чтобы мы разучились улыбаться, перестали верить в будущее.
Он указал на стол, сел первый, налил рюмки. И вдруг спросил сердито:
– Никак не пойму, почему ты из колонии бежал?
– Сначала медведь. А потом, потом…
Он засуетился, приволок из сеней сверток, развязал. Матово поблескивавшие обломки горной породы, измельчившиеся в дороге, рассыпались по столу.
– На озере был? – спросил Ивакин. И, протянув руку назад, словно фокусник, вынул из-за спины, положил на стол точно такой же кусок касситерита.
Они смотрели то на камни, то друг на друга и молчали.
– Рассказывай, – потребовал Сизов.
– Когда я оступился на краю обрыва и упал…
– Это я тебя толкнул…
– Нет. Я уже падал. Ты просто не смог ни за что ухватиться. Коснулся пальцами, а ухватить не успел. Это я хорошо помню.
Таня побледнела, встала из-за стола и ушла в другую комнату.
– Ну? – спросил Сизов. – Как же ты? Ведь я слышал, как ты упал в воду. Плавал там, искал тебя.
– Это, должно быть, камень. А я упал на кусты, что там, посередине, на стене растут. Помнишь зеленую полоску? Кусты удержали, откинули меня к стене. А там уступчик в полметра. – Он потрогал шрам на лице. – Вот память. Сколько пролежал без сознания – не знаю. Очнулся, позвал тебя, а там только ветер в щели: « У – у у!»
Сизов ударил себя кулаком по лбу:
– Чувствовал – что-то не так. Ведь чувствовал, а ушел. Вину свою поволок как юродивый: нате глядите, казните!..
– Когда доел, что в карманах было, решил выбираться. Скала хоть и гладкая, а не совсем. Стал спускаться. Думал: если упаду, так в воду. И сорвался-таки. Как выплыл, сам не знаю. А потом чуть богу душу не отдал. Время-то было позднее, снег уже лежал. Вот и схватила меня горячка. Хорошо, склад оставили, а то бы… – Он помолчал. – Зимой слаб был, да и как по снегам выберешься? Весной едва с голоду не помер. Охотник спас. Иван. Приволок в свою избушку, выходил. Он мне и указал руду. Я его в Никшу отправил, чтоб Татьяне сказать – жив, мол. А сам шурф заложил…
– Иван, говоришь?
– Да. Пермитин. Я тебя с ним познакомлю. Удивительный человек.
– На фронт ушел Иван, – сказал Сизов.
– Откуда ты знаешь?
– Знаю. А зимовье сгорело. Лесной пожар.
Они выпили налитые до краев да так и не тронутые рюмки, пожевали огурцы, думая о том, что тесны дороги даже в тайге.
– И я буду на фронт проситься, – сказал Сизов. – Может, и не пустят – не заслужил, а проситься буду. В любой огонь. Чтоб вину искупить.
– Какую вину?
– На мне срок.
– Нету срока… Я пришел, а мне говорят, в тюрьме ты. Сам на себя наклепал. Ну и пошел по инстанциям. Добился, чтобы пересмотрели твое дело. Поехал к тебе, а ты… бежал. Почему ты бежал?!
– Медведь конвоира задрал. Сначала бежал со страху, а потом так уж вышло… Подумал: хоть взгляну на Сашину гору… последний раз. Да и дело хотелось до конца довести, найти месторождение. В память о тебе. В другой-то раз, думал, не удастся. Меня и так уж в колонию вызывали, куда-то пересылать собирались…
– Это я за тобой приехал. А ты как раз…
– Ты? Ах да, конечно, ну-ну…
За стеной заплакал ребенок, и они замолчали.
– Тебе надо срочно заявиться в колонию, – шепотом сказал Ивакин.
– ¦ Да, да. Если освободят, на фронт подамся.
– Не выйдет с фронтом-то. Пойдем к Оленьим горам. Есть распоряжение об экспедиции. И есть для тебя место.
– Но ведь война!
– Думаешь, я не просился? А мне знаешь что сказали? Война, сказали, дело временное, а освоение этого края – на века… Да и для войны металл нужен.
И снова они долго молчали.
– Где касситерит-то нашел? – спросил Сизов.
– Там же, возле озера.
– Ага. Значит, это я в твой шурф попал. Думал, охотничья яма, а это шурф…
Проговорили, не заметили, как уже и вечер прошел, и ночь перевалила за половину. Только на рассвете Сизов спохватился, вспомнил о Красюке. Вскинулся, заторопился одеваться.
– Дурак дураком в тайге-то, пропадет, – объяснял он свою спешку.
Висела белесая утренняя дымка, когда они вдвоем вышли из дома. На поляну, где должен был ждать Красюк, поспели только к восходу солнца. По отсутствию костра поняли, что Красюк ушел отсюда еще вечером.
– Не поверил, что вернешься, – сказал Ивакин.
Сизов промолчал. Мелькнула нехорошая мысль: неужели из-за самородка? Неужели потому ушел, что не хотел делиться?
Они походили вокруг, покричали. Тайга была как омут – душила звуки.
В эти места осень приходит рано. Неожиданно ночью выпадает снег, приглаживает колдобины дорог. К полудню снег тает, но следующей ночью вновь ударяет мороз, и если не снегом, то студеным инеем покрывает жухлую полеглую траву.
В один из таких морозных рассветов от крайних домов таежного поселка Никша одна за другой отделились восемь тяжелогруженых лошадей. Восемь человек шагали рядом, вели их в поводу. Растянувшаяся процессия долго шла по заболоченному лугу, лошади дергались, поминутно оступаясь на кочках, поднимая из травы сонных куропаток.
Над лугом стоял морозный туман, скрывал дали. Когда впереди показалась лесная опушка, люди увидели что-то большое и темное, выдвинувшееся из леса.
– Медведь?!
Шагавший впереди проводник Аким Чумбока остановился, сказал спокойно:
– Я знаю эта людя.
Темное пятно приблизилось, и все увидели, что это человек. Он шел навстречу, согнутый, странно и страшно взлохмаченный, в своей изодранной до последней возможности одежде. Человек подождал, когда небольшой караван подойдет ближе, спросил хрипло, с нездоровым придыхом:
– На Никшу выйду?
– Заплутал, что ль? – спросил кто-то.
– Совсем заплутал, – отрешенно сказал человек, пристально вглядываясь в Чумбоку.
– Моя твоя знает…
– Где Иваныч? – перебил его человек.
Он отступил с тропы, давая дорогу лошадям. И вдруг судорожно дернулся, услышав тихий удивленный возглас:
– Юра? Красюк?!
Онн стояли друг против друга и молчали. Но вот Красюк начал горбиться, словно спина не держала его, и вдруг упал на колени.
– Ив-ваныч!! – по-медвежьи проревел он. – Валентин Иваныч! По-помилосердствуй! Конец, видно, мне…