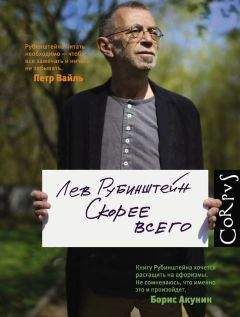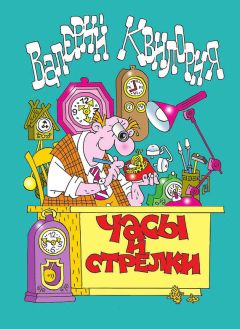так и задумано было: закрыть все заводы и конторы, где работали русские, им будет нечего здесь делать и нечего есть, а кто цепляется – с теми будет, как с самим Владимиром или с Сашей. А что делают латыши? Ловят рыбу. Рыбу везли тоже в Россию. Ходят в загранку на торговых судах. Ну, это вроде осталось. Пашут, сеют и доят…
А ведь говорят, в Европе молоко выливают, чтоб не дешевело – то есть там и это не надо, надо тоже в основном для продажи в Россию. Или тогда как в средние века: хуторянин сам себя кормит, сам на себя ткёт и шьёт… А трактор откуда взять? На себе или на лошадёнке давно не пашут. А солярку? То есть даже хуторянину, самому что ни на есть латышу из латышей, туго будет с прокормом. Или уже туго. Городские латыши служат чиновниками, торгуют, владеют разными мелкими фирмочками, ну, там, врачи, учителя, культура, искусство – всё надо, спору нет, но работают-то, фактически работают в этих мелких фирмочках – вот монтёром Арик, шофёром Роман Гарифович. Кстати, Арик – это как? Арон? У бати был такой знакомый, но давно и не здесь. Или можно просто Ариком? Владимир решается:
– Арик Соломон’ч, мы же не толпой в центральную проходную?
– Я буду Соломоныч, когда все там будем! Гы! – победительно и хулигански регочет Арик, выставив, наверно, на полметра вперёд угластую челюсть, при виде которой агент 007, скорее всего, отдал бы концы от чёрной зависти. Полного имени так и не называет. – Естес’с’но, не толпой! – Он оглядывается на спутников, словно пересчитывая их, челюсть шевелится вправо-влево: раз-два, три-четыре, синие глаза озаряются мальчишеским, первобытной непосредственности счастьем отколоть штуку. – Значится, так: вон забор заворачивает, там мимо путей… ну, довольно далеко, но всё время вдоль стены, там будет будочка, вот к ней! Я возьму с собой одного, кто поможет мне разгрестись там – вот вы, да?
И тычет длинным, в производственных пятнах пальцем во Владимира.
В проходной Владимир старается держаться за спиной своего спутника, что при её ширине нетрудно. Арик буркает «со мной», взмахивает корочками, и они проходят через вертушку. От радиозавода вагоностроительный отличается, пожалуй, размерами зданий. Помассивнее, повыше, с огромными окнами. Из корпуса в корпус ведут рельсы. Они с Ариком идут куда-то вбок от проходной, в один корпус, проходят его насквозь – пусто, темно, все станки давно вывезены. А станки были – вот видны места, где были фундаменты под них.
Теперь фундаменты расковырены. То ли так станки стаскивали, то ли курочили их на металлолом прямо на месте – и даже бетон не пережил такого варварства. В выбоинах всякая дрянь, клочки какого-то тряпья или бумаги, многолетняя пыль. Луч фонарика, зажжённого спутником Владимира – «да будет свет, сказал монтёр» – упирается в её стену. Они выходят в какой-то переход, где света больше. Идут по коридору. Щит с надписью «УГОЛОК ПРОМСАНИТАРИИ». Ещё один: «СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ЦЕ…» – остаток слова «цех» и номер, а быть может, название цеха, отвалились. Такие же щиты были везде, и в институте, там какие-то остряки переклеили спортивную жизнь на «противную», и на заводе, только там Владимир уже не видел, чтобы ими интересовались, читали их или тем паче заполняли. Дверь, двор, рельсы. Их ещё в металлолом не сдали. Арик роется по карманам, достаёт связку ключей. Отпирает дверь в маленькую грубо сляпанную из силикатного кирпича будку, на которой висит знак «Осторожно! Высокое напряжение!»
– Растащи барахло, – командует он Владимиру, сам нагибаясь и сдвигая в угол здоровенный железный ящик.
Некоторое время они оба только пыхтят, растаскивая и перекладывая с места на место тяжёлые, замасленные, промышленно пахнущие, не всегда понятные Владимиру технические артефакты. Самые понятные – это моторы и трансформаторы. Таких типономиналов Владимир не знает, по весу они едва посильны двоим. Обрезки досок и щитов из прессованной стружки. Чемоданы с инструментом и из-под инструмента. Дверь! У будки есть другая дверь. А за дверью голоса. Арик отпирает и эту дверь. Через будку на заводской двор идут люди в заплатах. Десятка полтора мужчин и три женщины.
– Деньги там отбирали, – вполголоса говорит Владимир Арику. – И они второй день без еды.
Арик оборачивается так, как будто его ударили. Скулы обтянуты, жилистая шея напряжена. И глаза стальные.
– Врёшь?
Рядом с Владимиром оказывается Саша.
– Не говори так, пожалуйста. Он нас спас.
Арик переводит дух.
– Ну, ну, спас! Спасаться будем сами утопающие. Я просто не поверил. Никогда живых эсэсманов не видел, только очень древних, они от маразма могут ведь хвастать и тем, чего не было. А он сказал, – Арик кивает в сторону Владимира, – прямо живьём то самое… Значит, так: один остаётся там, ещё он, остальные со мной, как разместимся, те двое достанут еды!
Руки Арика летают. Так же, как у Соломона Давидовича над чаем. Сразу понятно, куда – Владимиру, куда – его предполагаемому помощнику по части достать еды, куда – остальным. Саша идёт назад в будку. В дверь, на железнодорожные пути. Арик запирает дверь.
– Подходи к проходной! – негромко кричит он вслед Саше.
А потом поворачивается всем угластым костяком к Раисе Виленовне.
– Вижу, у вас под рукой три таких помощника, вас, наверное, можно попросить отвечать за хозяйство и за ключик? – он снимает с кольца, на котором держится у него связка ключей, самый большой и ржавый ключ. – Вот этот – от будки. От той двери. А от этой, где высокое напряжение – вот этот. – Он отдаёт Раисе Виленовне ещё один ключ, значительно более обтёртый частым употреблением. – Ага?
– Это Раиса Виленовна, – представляет её Владимир. – А это Руслан, Алик и Гарик.
– Классно! Какой у нас завхоз и какая хозкоманда!
– Спас нас как раз Алик, – продолжает Владимир, – он узнал фургон и шофёра, рассказал обо всём вашему батюшке, а уж Соломон Давидович… Вот он нас спас!
– Я же говорил – дело рук всех утопающих в мире, невзирая на цвет кожи, вероисповедание и оседлость!
Они всё углубляются в заводскую территорию. Заросшие клумбы, бетонные вазы для цветов, бывшая доска почёта – надпись по-русски и по-латышски на бетонной стеле ещё сохранилась, но металлический каркас аккуратно срезан. Окна в зданиях в основном целы, но попадаются и разбитые. Ни одной брошенной железки, разломанного механизма, какого-нибудь грузовика или кара – нет, металл здесь берегут. Берегли. Сдали до последней гайки. Не для работы берегли, а до последней гайки обратили в звонкую монету – у Владимира даже звенит в ушах от ненависти, будто эти самые звонкие монеты сыплются где-то в блёкло-голубом, безвыходно перекрытом волокнистой облачностью пространстве над ним невидимо для прочих.
Старинные узорно-кирпичные корпуса кончаются, они входят в сравнительно