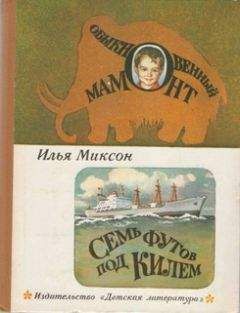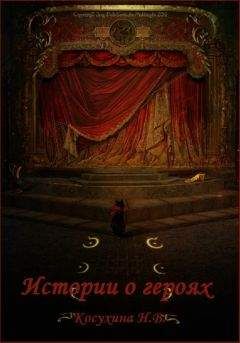По пропеллеру заскрежетала ножовка. Слышался монотонный голос Стрингера, объясняющий Белами, что предстоит делать с хвостом. Инструменты музыкально позвякивали. Кроу насвистывал. Высоко в небе стояла луна.
Когда взошла полная луна, они увидели мираж. Привычные к пустыне, они знали, что миражи никогда не случаются после захода солнца — этот был при полнолунии. Они видели песчаную бурю — и при этом не ощущали даже ветерка.
В конце дня Белами записал:
— Двадцатый день. Работа пока продвигается хорошо, но очень мало воды. Преодолели много препятствий. Сказывается голод, мучит не само желание есть, а просто сильная слабость и боль в животе.
За прошедшую неделю случилось три досадных задержки. Подняв на опорах новую машину и выбив козлы из-под крыльев, Стрингер вознамерился балансировкой определить центр тяжести. Это было нужно для размещения людей во время предстоящего полёта и выяснения центра подъёмной силы. Никто, даже Таунс, не смог убедить Стрингера не прибегать к этой рискованной операции. Одна из опор перевернулась, и две ночи ушли на сооружение новых козёл.
Моран уронил в песок жиклёр карбюратора, целый час искал, но безуспешно, и остаток ночи у него ушёл на разборку карбюратора правого двигателя, чтобы взять из него жиклёр. Теперь он держал его как бесценную жемчужину. Жиклёр был не больше ореха, но он помнил слова Кроу: «Потеряешь и этот — тогда конец». Новая машина взлетит, — если она вообще будет способна летать, — независимо от того, будет ли её хвостовой костыль сделан на пятьдесят килограммов легче или тяжелее, но без этой крошечной штучки ей не взлететь никогда.
Уотсон сломал пять ножовочных полотен, а Тилни три, а на распиловку последнего монорельса для хвостового костыля ушло пол-ящика напильников. На руках лопались и грозили заражением пузыри.
Они продолжали работу.
За большими задержками последовала дюжина мелких. С презрением относясь к неумелости, раздражаясь бестолковостью, Стрингер тем не менее никогда не выходил из себя, как Таунс или Уотсон. Работали иногда и днём, несмотря на испепеляющий зной. Однажды пронеслась электрическая буря, до предела истощившая нервы. Постоянно приходилось превозмогать боль и бороться с панической мыслью — можем не успеть.
Две ночи назад выпала роса, обеспечив двумя галлонами воды, мутной от парашютной краски и нефильтруемой грязи. Они смаковали её, как шампанское. Отдистиллировали всю охлаждающую жидкость правого мотора. Теперь было по две пинты в день на человека. Почти целую неделю. Не думали и о голоде. Как можно выжить на одних финиках? Никто не спрашивал. Надо выжить, пока не будет закончен «Феникс».
Как-то ночью Лумис отскрёб краску с идентификационных знаков на крыле, расплавил её и вывел это имя на фюзеляже. Чтобы написать аккуратно, требовалось время. Он не торопился. Машина, которую они строили, обрела очертания самолёта. Теперь у неё было имя, и они гордились этим. Сомневался один Уотсон:
— Те фениксы, что я видел на картинках, всегда горели.
Кроу терпеливо растолковал:
— В том-то и дело. Птица загорается и откладывает яйцо, потом появляется птенец и улетает. Понял? Как раз то, что сделаем мы.
— Посмотрим, — сказал Уотсон.
Время от времени поглядывали на имя своей машины. Возникло даже тёплое чувство к этому названию и человеку, посвятившему себя их самолёту. Ненависть к Стрингеру прошла — теперь они несли ему свою любовь, усматривая что-то богоподобное в его холодных, как у ящерицы, глазах. Для них Стрингер был безобразный чародей, заключавший в своём жезле торжество жизни над смертью. Ему повиновались беспрекословно..
— Проверните двигатель. Нужно освободить поршни.
Они заземлили магнето и вручную, как лопасти, прокрутили пропеллер. Незанятые наблюдали со стороны, ожидая чуда: рвущиеся из труб клубы выхлопного газа, гул взревевшего мотора, слившиеся во вращении лопасти пропеллера. Сейчас этого не произошло, но обязательно случится однажды, и снова начнётся их жизнь.
— Укрепите хвостовой костыль перекрёстными кронштейнами. Можете воспользоваться имеющимися отверстиями, чтобы не сверлить новые. Проследите, мистер Белами.
И они брались за инструменты. Новое крыло не лежало больше на продавленной крыше старого фюзеляжа. Оно было натянуто на уровне с другим крылом, поддерживаемое толстым кабелем от лебёдки, «феникс» не висел теперь на козлах и подпорках, а стоял на собственных ногах из кусков монорельса, отрубленных, подпиленных и подогнанных до нужной длины истёртыми до крови руками при помощи ломаных и изношенных инструментов.
— Мистер Таунс, проверьте тяги управления — они где-то цепляют.
Никто не подвергал сомнению его право указывать, даже Таунс. До двадцатых суток не произошло ничего особенного, если не считать того, что они работали как проклятые. Да ещё умерла Джил.
Это случилось двумя ночами раньше, когда Лумис одиноко стоял в стороне и разговаривал с ней, обращаясь к звёздам. Новость пришла без всякого уведомления, как бы ниоткуда, и вот всю его душу переполнило удивительное успокоение: «До свидания, Джил. До свидания, дорогая. Увижусь с тобой там. До свидания». Устремив глаза к высоким звёздам и перенесясь в один миг через тысячи миль, он вдруг с цепенящей душу определённостью почувствовал, что в эту самую минуту её не стало. Он ощутил невыразимое одиночество, все потеряло для него смысл, потому что с её смертью погибло все.
На следующее утро он ушёл в пустыню через горловину между дюн. Таунс и Моран привели его обратно. Он не помнил даже своё имя. Они сказали: это тепловой удар, и дали ему воды. Сейчас он пришёл в себя и всю последнюю ночь работал вместе с остальными — мёртвый рядом с живыми.
Работа шла полным ходом, но опять на исходе была вода. Пробовали есть финики, иногда получалось: глотали, не пережёвывая, и ждали боли в желудке. Работа с её последовательно возникающими трудностями — большей частью из-за недостатка хороших инструментов и необходимостью искать им замену — понемногу приучила не обращать внимания на зной, голод и жажду. Лишь в короткие передышки возникали сомнения: удастся ли заставить себя подняться и продолжать?
На двадцатый день после захода солнца зажгли, как всегда, фонарь, а через два часа поднялась луна, и возник мираж.
Первым его увидел Белами, но ничего не сказал, потому что вспомнил о трех вертолётах и испугался. Он не мог оторвать глаз от странного облака пыли, которое поднялось ввысь и висело на фоне лунного диска. Воздух был неподвижен. Белами повернулся, но и теперь не почувствовал дуновения. Песчаная буря продвигалась на север, одинокое дымное облако, освещённое луной. И вдруг донеслись голоса, приглушённые расстоянием. Он отвернулся, чтобы ничего не видеть, не слышать, но голоса не исчезали.