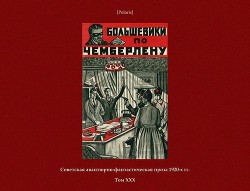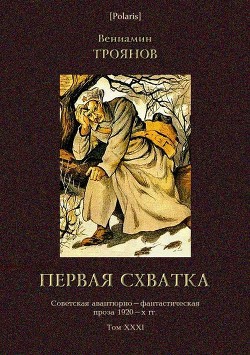Две минуты простояли парни, не двигаясь, пока они не увидели между колоннами каменную плиту с изображением украшенной свастикой женщины.
Увидев ее, ребята переглянулись.
— Здесь! — тихо шепнул Марсельезец.
— Да. — подтвердил Стремяков.
— Идем.
Ребята оттянули плиту и вошли в один из тайников храма.
Через минуту они очутились на площадке перед амбразурою, выходящей наружу.
Стремяков выглянул в нее и увидел впереди себя берег Ганга, на котором уже толпились паломники, монахи, фокусники и рыночное простолюдье Индии.
Марсельезец высунул на мгновение также нос и довольно сообщил:
— Хорошая нора… Наши на берегу…
— Вся организация…
— Ну давай заряжать.
— Катай, заряди русские на всякий случай, и фотографируй, что происходит, я же буду ворочать им Когатскую резню…
— Ладно начинай…
Стремяков вынул из сумки аппарат и навел объектив.
Щелкнула кнопка. Перед толпой на берегу развернулась дымчатая пелена. Появились узорные надписи:
«Знаете ли вы как правительство разъединяет сынов Индии, чтобы они не вели борьбу за свое освобождение? Смотрите, как оно допустило погром в Когате»…
Надписи исчезли. Берег ожил. Толпа загудела и хлынула, чтобы захватить места, теснясь и сливаясь копошащимся муравейником по всему району прибрежных площадок и пустоши между строениями.
Глазам горожан представилось помещение кабинета восточной редакции.
Секретарь редакции парсис работает за столиком. Кресло за большим письменным столом пустует. Входит чиновник туземной полиции. Увидев пустое кресло редактора, вопросительно обращается к парсису. Тот приглашает сесть, и сейчас же входит редактор газеты англичанин.
Он окидывает взглядом посетителя и кабинет, его предостерегающе сухие глаза на мгновение останавливаются на толпе зрителей, как будто он видит береговое сборище и готов топнуть ногой…
Толпа бенаресского рынка так именно и поняла взгляд саиба с картины и немедленно колыхнулась.
— Морда! Морда! — загудел берег, сразу улавливая враждебную контрреволюционность саиба. Но открывшаяся дверь кабинета и появление новых лиц остановило волнение зрителей.
К редактору вошло двое мусульман-купцов, которых приветствовали и редактор, и сидвалла-полицейский, начавшие с ним дружный разговор.
Движением головы редактор велел оставить кабинет поднявшему на него глаза парсису.
Тот вышел.
— Совещаются! Совещаются! Морды! Банда сагибов!
Мусульмане убеждают редактора и сидвалла:
«Мы в пятницу не торгуем и все должны закрывать торговлю».
Мелькнула внизу картины надпись, ее содержание пробежало в выкриках прочитавших ее грамотных зрителей.
Толпа еще теснее сгрудилась, напирая к самой реке, поверхность которой исчезла за картинами видения.
Совещание между тем быстро кончилось, мусульмане поднялись, сговорившись с редактором. Картина снова изменилась.
На ней показалась старинная мечеть. Почти возле ног зрителей легла площадь, и в нескольких шагах ступени входа в храм.
На пороге мечети по выходе с молитвы останавливаются и совещаются с группой единоверцев купцы-мусульмане. Англичанин редактор, подошедший к храму, тоже что-то говорит. Собрание возбуждено оглядывает и грозит проходящей мимо группке индусов. Один грозит им кулаками. Англичанин злорадно наблюдает происходящее.
Толпа на берегу замерла и, схватив лицо англичанина, в свою очередь стала волноваться.
— Морды ки хлакат! [31] Долой морд!
Но опять картина переменилась и толпа на мгновение успокоилась.
Развернулся рынок. Магометанские и индусские овощные лавки. Толпы покупателей. Чья-то заблудившаяся корова затесалась в толпу и возле магометанской лавчонки потянула пучок зелени.
Один магометанин лавочник моментально бросил в корову камнем, другой схватил палку и, колотя ею животное, погнал корову по улице. Это заставило повыскакивать из лавок индусов, бросившихся на защиту коровы, являющейся для них священным животным. Покупатели сразу разбились на два лагеря и разразились угрожающей перебранкой.
— Животные гау-кхана! [32] — кричит одна сторона.
— Собаки, сур-кхана! [33] — кричит другая сторона.
Группка магометан сбежалась возле одной лавки и, подстрекая друг друга, только ждет момента, чтобы броситься на индусов.
Толпа на берегу загудела, предупреждая мусульман на картине:
— Берегитесь! Берегитесь! Э-э! Морды обманывают!
Но видение рынка исчезло, на картине выпрыгнул переулочек.
Индусы собрались возле ворот и что-то обсуждают, затем они закрывают лавки и идут к воинскому начальнику.
Тот встречает туземцев в большом бунгало вместе с редактором-фашистом. Редактор что-то подсказывает военному. Индусы просят защитить их от погрома, к которому приготовились магометане.
Воинский начальник отвечает:
«Мы не можем вмешиваться в ваши дела. Магометане соблюдают закон, не устраивают бунтов, и поэтому мы не можем их раздражать своим вмешательством. Ведите себя смирно, и погрома не будет»…
Он кивнул головой, чтобы просители уходили.
Индусы, выйдя из бунгало, совещаются. Они о чем-то упрашивают старика торговца из своей среды. Тот, поколебавшись, соглашается.
Он едет в Симлу к великому учителю Индии махатме Ганди с просьбой заступиться. Но едет туда и редактор…
Картина показывает сцены в столице.
Ганди совещается со столичными руководителями магометан. С одним из них он направляется к вице-королю Индии. Оба представителя враждующих национальностей просят разрешения выехать им в Когат, где готовится резня, и устроить там собрание, чтобы убедить обе враждующие стороны не производит братоубийственного кровопролития.
Вице-король, у которого уже побывал редактор, отвечает отрицательно. Убеждения вождей враждующих национальностей не помогают.
Убитые отказом вожди народа уходят. Когда лавочник-делегат возвращается в Когат, магометане встречают его насмешками и бранью. А затем на улицах начинается резня.
Картина вдруг оборвалась. В толпе что-то произошло.
— Сипаи! — воскликнул Марсельезец, действовавший натурографом. — Полиция! Прячь аппарат!
Действительно, на берегу началось смятение. До сих пор зрители базара, находясь под возбуждающим влиянием картины, не замечали, что творится вокруг.
Но вдруг начался шум, видение оборвалось, толпа услышала сзади себя крики, и тогда обернувшиеся лавочники, рабочие и посетители рынка увидели, что на них с тыла уже напали усмирители. Происходила горячка первых арестов.
Полицейские схватывали женщину, несущую какой-то узел с домашними вещами от соседки, и разбрасывали ее содержимое, тащили фокусника с ящиком для змей, лавочника, крикнувшего что-то оскорбительное, молодого брамина, только что посвященного в жреческий сан и несшего в свертке новые одежды, группу грузчиков-рабочих с тележкой, остановившихся возле берега, аскета с доскою в гвоздях, на которых тот занимался истязанием своей плоти.
Толпа, растерявшись и попробовав пробиться с берега, пришла в ярость, когда натолкнулась на верховых сипаев, загородивших дорогу, в свою очередь, со стороны рынка.
— Цокай! — шепнул Стремяков Марсельезцу, предлагая ему фотографировать происходящее.
— Цокаю, цокаю! — ответил тот.
Стремяков, не переставая выглядывать в амбразуру, переставил заряд в натурографе.
На берегу между тем перебранка превратилась в сопротивление, и в одном месте какого-то арестованного юношу вдруг начали рвать в одну сторону полицейские, в другую толпа.
Офицер, командовавший полицейской кавалерией, что-то закричал и двинул ее на толпу. Сипаи с мечами рванулись на людей.
Вдруг разъяренный женский возглас заставил остановиться и их, и наэлектризовал массу.
— Саттиаграх! Индуски! Сестры! Что нам смотреть? Пока перерубят? На землю!