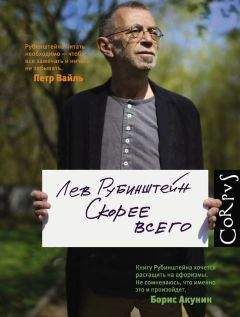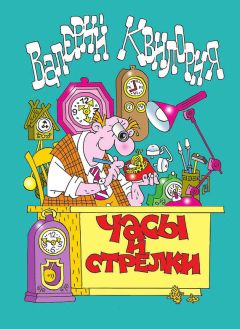Пока затихнет шум вокруг Андриса Силиня.
Нет, фамилия Силинь, видно, ничего не будоражит в сознании Эрмины. Или она не показывает подлинных чувств даже подруге?
– Тогда услуга за услугу, хорошо? Если ты не особо занята? Надо сплавить сошку помельче, ожидаются ещё гости из Европы. Въехал вчера постоялец из Беларуси, а по паспорту женат на некой Кристине Видземниекс. Пробили по базе данных – живёт в Риге. Если бы ты организовала их встречу, вдруг она заберёт его к себе, номерок освободится?
Теперь Эгле выходит под дождь, раскрывая Эрминин японский зонтик «Три слона». Идёт к стоянке такси. Такси углубляется в чащу многоэтажников. Поворачивает во двор. Ветер, приветствуя её, громко хлопает в мокрые зелёные ладоши – листья тополей. Остальные – липы, ясени – уже пожелтели и усыпают ей путь к подъезду, расположенному между двумя полукружиями стен – дом словно состоит из исполинских лепестков, он похож на трилистник. Нет. Триумфа, цветов и золота не получается. Дождь злорадно барабанит по зонтику: не так, не так, не так…
– Мама на дежурстве, а меня зовут Ивар… Заходите, пожалуйста, я кофе сварю…
Ивар берёт у гостьи мокрый зонтик – щёлк! – фейерверк брызг, словно подсвеченных огненным сиянием его шевелюры. Зонтик оказывается в углу комнаты, мокрый плащ отправляется на составленные стулья к электрокамину, и вот уже сама Эгле, не успев опомниться, сидит на круглом дерматиновом табурете возле воркующего чайника с тонко нарисованной коричневой розочкой на боку. Розочка будто шевелит лепестками в горячем токе воздуха, навевает чайное настроение. Стол покрыт скатертью, какую Эгле видела разве что разок в жизни – похожей на моющиеся обои и на дерматин одновременно, разрисованной переплетёнными квадратами, с протёршимися углами. Кажется, в общежитии училища, где ей доводилось бывать у подруг, было на кухне что-то подобное, русские студентки называли это «клеёнка».
Эгле сидит и впивает полным дыханием, всеми порами, каждым упруго расправляющимся волоконцем где-то внутри души поток тепла и уюта. Так хорошо ей не было… Как давно? С каких времён? Эгле не помнит. А потом и вспоминать перестаёт хотеться. Ивар хлопочет, доставая очередной «хальварин», чайницу с чаем, хлеб, батон, какао, молоко. Эгле встаёт и начинает ему помогать, то и дело спрашивая – где нож, где доска… Ивар вдруг жизнерадостно фыркает:
– У меня никто никогда про хозяйство не спрашивал.
Как давно, с каких пор не слышала Эгле смеха? Из её груди вырывается что-то, долженствующее означать ответный смешок, хотя похожее больше не то на стон, не то на рыдание. Она вспоминает: в прихожей не было ничего мужского, ни плаща, ни ботинок, ни домашних туфель. Значит…
– Ивар, – говорит она, – твой папа нашёлся.
Ивар долго-долго смотрит на неё. Она не знает его сомнений, ведь в эту весть он верит сразу, а сомневается лишь в одном: сказать ли то самое слово, что не хотело идти с губ за золото? Непокупаемое слово? Наконец он произносит:
– Госпожа… Останьтесь у нас до утра, мама сменится, и тогда…
Завтракают они уже втроём. Дама, которая представилась как Эгле, оказывается, успела, ещё пока Ивар спал до маминого прихода, сходить за продуктами в круглосуточный магазин поблизости. Завтрак роскошен – Ивар никогда не пробовал копчёной колбасы, твёрдого сыра, сливок. И никогда не ездил на такси. Черноусый, плотный и широкий в теле, одетый в дорогой костюм дядька, правда, не сразу кинулся обнимать маму – а именно так, с объятиями, представлял себе Ивар их встречу. Нет, он долго стоял под дождём, плечи его костюма намокли и сделались темнее всего остального, намокла и потемнела на груди светло-жёлтая рубашка, и так же неподвижно стояла перед ним мама. А госпожа Эгле всё пыталась прикрыть их обоих своим зонтиком, и Ивар слегка подтолкнул маму вперёд, чтобы она поместилась под зонтик госпожи Эгле. И вот тогда-то черноусый сдавленно вскрикнул: «Крыстя!» – и блеснули сахарно-белые зубы, и взыграли чёрные глаза молниями летней грозы, и один неловкий, короткий шаг навстречу маме сделал он – и вот уже обнимались все трое. Дядька вскрикивал то «Крыстя», то «Ивасик», а мама повторяла: «Игорёша, родной, пошли, люди смотрят, дождь, Ивасика придушишь, Игорёша, родной…» Наконец объятие распалось, и дядька сказал:
– Ну, пшли до дому, уж я наведу порядок, плюс и минус в розетке по местам поставлю!
И мама засмеялась. Засмеялась и госпожа Эгле. А когда наконец пошли домой, черноусый дядька сказал:
– Крыстя, я ведь по делу приехал. Поповку совместное русско-беларуське прадпрыемство покупает. Будет приборостроительный концерн, как при эсэсэсэре, пятьдесят один процент российский, по двадцать четыре с половиной Беларусь и Латвия, но то будут частники, не дзяржавнэ дело. Меня менеджером числят, так теперь это называется – просто я по-вашему хоть трошки мерекаю. Здрассте могу сказать. А так – папочку за шефом ношу, платят за это добре. Ну, как тут ваши – образумились? Можно мяне тут жить? Или лучше табе увезти? Могу хоть сейчас, теперь есть куды, и хто б посмел забраниць!
Эгле шла рядом с Иваром, защищая зонтиком в основном его. До этого дня она никогда никого не защищала. Было странно – ведь только вчера она попросила помощи подруги. Сама попросила о защите. И вот она защищает другого. Благодаря ей трое людей были счастливы… нет, зачем же «были», они счастливы и будут счастливы, пока не вмешается… А кто может вмешаться? Господин Ивасенокс, так его зовут, гость из Беларусс, говорит, что никто не запретит им с этой женщиной жить вместе. А кто-то запрещал? Наверное, у него нет гражданства Латвии. Да! Негражданин. Щекам Эгле становится жарко. Сколько таких прошло перед ней, сдавая экзамен по государственному языку… Она запрещала. Выходит, что она. Господин Ивасенокс плохо знает латышский, а фирма, на которой он работает, послала его в Латвию, именно учитывая его знакомство с латышским. Он не мог бы быть патриотом Латвии, он содействует переходу собственности Латвии в руки России! Значит, было правильно не дать ему гражданства. Правильно? А как же Ивар? А та уютная кухня? Что важнее, какая-то непонятная «Поповка» или эти двое, мать и сын, их дом, их уют, который и есть Родина?
– А что такое «Поповка»? – спрашивает Эгле неожиданно для самой себя.
И Игорь Ивасёнок отвечает на не очень правильном латышском:
– «А-Попова Ригас Радио Рупница». Теперь это часть концерна с замкнутым циклом производства, от микросхем до готового радиоприёмника или телевизора. Это, пани, работа для десяти тысяч человек, налоги в бюджет и прочая цивилизация!
А ведь Мартиньш говорил о забастовке полицейских, думает смятенно Эгле. Десять тысяч уютных кухонь, как вчера и сегодня… небастующие полицейские… их жёны на своих, тоже на уютных кухнях… Нет!