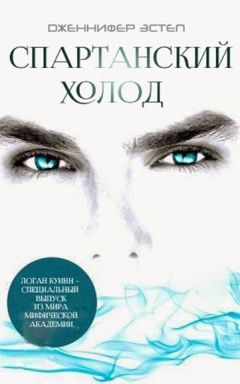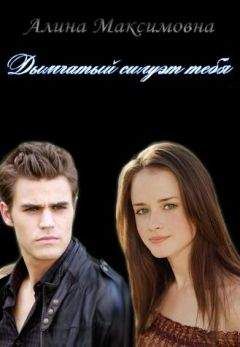— Что?
— Записка.
И все головы, все взгляды в записку…
— Через 5 минут восемь часов, — сказал Макаров. Ярославцев долго смотрел в записку, думал: провокация или нет? И в первый раз за все время в голове появилась мысль о провокаторе. Тряхнул головой и сказал:
— Расходитесь по два, без шума.
Часть вышла в двери, часть, отодвинув шкаф, вошла в провал стены, часть бросилась к окнам, готовя револьверы.
Церковная служба близилась к концу. Истово и набожно крестился староста после каждой проданной свечки, покупаемой то богомольной старушкой, съедающей заживо свою бессловесную прислугу, то положительным, с осанистой бородкой купчиком, членом союза истинно русских людей, то чиновником с Владимиром в петличке, с плешивой головой, то коллежским регистратором, желающим выслужиться перед начальством. Дьякон махал кадилом и иногда, воздев руку с орарем, в промежутках ронял свое отрывистое:
— Господу помолимся!
Здесь, в затхлых стенах, проеденных ржавчиной и сыростью, отживал свои последние дня старый мир, а на улице, в крови, в нетерпении, захлебываясь темпом жизни, бился мир новый.
Громадный дом всеми своими восьмьюдесятью четырьмя глазами уперся, тяжело вздыхая, в заложившего руки в карманы молодца с распахнутым воротом, в сбитой набекрень шапке, читавшего внимательно афишу.
Автомобиль, пыхтя, мчался, отравляя скверным бензином улицу.
Человек, читавший афишу, вынул платок, быстро отер лицо; платок мелькнул в воздухе белой птицей и исчез в кармане.
Не расторговавший товар бубличник, стоявший на другом углу, нервно рванул платок из кармана, нервно вытер лицо, не обращая внимания на покатившиеся по земле бублики.
И платок, мелькнув на мгновение в воздухе, исчез в кармане.
Автомобиль мчался, раскачиваясь и дрожа, везя с собою смерть нескольким революционерам, так называемым «внутренним врагам».
Фельдфебель Руденко, после блестяще проведенного в погроме еврейской семьи дня, заплывшими глазками услужливо наблюдал за «их благородиями», готовый каждую минуту вытянуться и замереть, в одном беспросветном чувстве преданности царю и отечеству.
Газетчик даже выронил газеты, но зато платок взвился вверх, на мгновение мелькнув ярким бликом в вечернем сумраке. Это был угол третьего квартала.
А на четвертом — четвертый, отирая пот белым платком, бросился бежать по улице к дому с табличкой «Новосельская, 101».
В воротах столкнулся с уходящими Катей и Макаровым. Обрывки фраз, глаза.
— Спасайтесь, едут!
— Знаем. Беги сам.
Прощание глазами, и разошлись в разные стороны. Автомобиль примчался и остановился, дрожа от бешенства.
Разгром явки не был долгим. Поломали мебель, побили стекла, выбросили мебель в окно и во время перестрелки успели все-таки убить двух коммунистов и двух извлечь из подвала.
Привели.
В угрюмые глаза рабочих уставились холодные стальные глаза Энгера и улыбающиеся с искрой мягкости Иванова.
— Прикажете расстрелять?
— Повесить, — бросил Энгер.
— Не надо вешать, сначала допросить, а повесить всегда успеем, — сказал, мягко улыбаясь, Иванов.
Ротмистр Энгер вскинул глаза, глянул, и два холодных его глаза утонули в ответных глазах Иванова.
— Хорошо. Повесить убитых для примера. Фельдфебель засуетился.
— На фонаре, — бросил Энгер, — а этих в гостиницу.
Вечер…
В центре уже зажглось электричество и кипела полным темпом жизнь. Сверкали валюта, бриллианты, текло золото и лилось вино.
Там, в кафе, ресторанах, подвалах решалась жизнь десятков тысяч людей, там запродавались в рабство иностранному капиталу сотни тысяч людей.
А около фонарного столба, против Новосельской, 101, стояли четкие фигуры двух офицеров. Фельдфебель суетился, махал веревкой, выбирая поудобнее фонарь…
Нашел…
Под фонарь притащили трупы Фаддеева и Колосова. Фельдфебель любовно опустился около трупов и, с удовольствием жмурясь, накинул петли на шеи.
— Он похож на Биллинга. Не правда ли? — спросил Иванов.
— Нет. Обман зрения.
И им представился Биллинг, с пьяной улыбкой, любовно застегивающий ожерелье на шее своей любовницы.
И снова скрестились взгляды обоих офицеров и снова ничего не прочли. Ничего…
Четким шагом прошли к автомобилю, сели.
Из раскрытых дверей церкви, в тот момент, когда в воздухе, раскачиваясь, поднимались трупы коммунистов, отчетливо донеслось «Христолюбивому воинству многая лета… Мнооогая леетааа».
Трупы повесили.
Живых повели под усиленным конвоем.
Автомобиль уехал, солдаты ушли, а из церкви на паперть вышли молящиеся.
Толпа охнула, закрестилась, но не без любопытства рассматривала качающиеся трупы.
Что безразличной толпе до убитых коммунистов?
И только редко кто за чашкой чая в домашнем уюте вспомнит о посиневших трупах и, перекрестясь, прошепчет: «Спаси, господи, от наваждения».
По Пушкинской улице спешили Катя и Макаров. Шли, почти не разговаривая, и только шум отдаленного автомобиля заставил их ускорить шаги.
Быстро вошли в типографию.
Машины ровно, однообразно шуршали бумагой, ворочая барабанами на краску.
Разговор… Быстрый, неуловимый, тот разговор, когда слова угадываются по движению губ.
— Разгромили.
— Жертвы есть?
— Наверное.
Так разговаривать умеют люди, находящиеся в постоянном напряжении, люди, всю жизнь находящиеся начеку. Автомобиль остановился у типографии. В дверях остановился Энгер.
— Приказ готов?
— Печатается.
И, когда ротмистр Энгер подошел к машине, в дверях появился Иванов.
Лица, полувыхваченные из тьмы, замерли в одном движении, в одной мысли.
Ротмистр Энгер четко сфотографировал взглядом рабочего, скользнул по Макарову и, наклонившись, взял с машины листок.
«ПРИКАЗ
Войскам Новороссийской Области 27 сентября 1919 г.
№ 33
г. Одесса».
Прочел. Потрепал Макарова по плечу…
— Молодец. Старайся!
«Постараюсь. Как же, вовсю», — думал Макаров, накладывая лист за листом.
Энгер, сделав распоряжение, быстро окинул взглядом типографию и, повернувшись, вышел. Иванов, мягко улыбаясь, пошел за ним.
— Софиевская, 19, — сказал Энгер, садясь с Ивановым в автомобиль.
Иванов внимательно рассматривал небо, молчал…