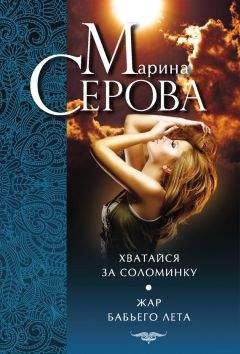В большом, тяжеловесно обставленном номере — приземистые кресла, колониального стиля диван, солидные, на совесть начищенные отельной прислугой дорогие и тяжелые безделушки — итальянец казался особенно нездешним. Да и номер был каким-то нежилым. Ни окурка в пепельнице, ни галстука на спинке стула. Ничего. Как в комнате отдыха для транзитных пассажиров, когда не только твои вещи, но и твои мысли не здесь.
Антониони не приступал тогда ещё к съёмкам фильма, а только, как он сам выразился, «продирался» сквозь Голливуд.
Продираться было, как видно, совсем не легко, потому что выглядел он не только усталым, но и подавленным.
Я вспомнил, как узнал о том, что он в Голливуде. В той же знаменитой голливудской гостинице я завтракал с актёром и продюсером Т., неожиданно для себя ставшим звездой первой величины, миллионно разбогатевшим и до сих пор сохранившим по этому поводу удивленное выражение на лице Плечом он прижимал к уху трубку телефона (телефон держал почтительно склонившийся официант). В одной руке у Т. был бутерброд, а в другой — стакан молока.
— Слушайте, я видел сегодня внизу этого знаменитого итальянца. Вы не знаете, что он здесь делает?
— Какого итальянца?
Т. прожевал кусок, минуту мурлыкал в трубку и затем потер лоб рукой, освободившейся от бутерброда:
— А, чёрт, всё забываю его фамилию. Ну тот, который про фотографа — «Блоу ап», с Ванессой Редгрейв.
— Антониони. Микеланджело Антониони.
— Кажется, так.
Я удивился, когда узнал, что Антониони делает фильм в Голливуде. Как-то не совмещались в моем сознании эти два имени, ставшие, если хотите, понятиями. Они контрастировали и противоречили друг другу, как этот безвкусно богатый, напыщенный пустой номер и его усталый, сухощавый обитатель.
Поэтому прежде всего я спросил его, как возникла мысль снимать фильм в Голливуде.
Оказалось, почти случайно. Карло Понти как-то сказал Антониони, что его фильмы очень любят в Японии и почему бы ему не попробовать сделать там свой следующий фильм.
Антониони поехал в Японию. Через Америку, В Японии он отказался от идеи, предложенной Понти. И возвратился назад в Италию. Опять через Америку. А спустя некоторое, время поехал в Америку на несколько месяцев, чтобы увидеть её поближе. Точнее, увидеть американскую молодежь и попробовать разобраться, что же с ней происходит.
Как-то в Фениксе, штат Аризона, он прочел в местной газете заметку о том, как молодой парнишка пробрался на местный аэродром, написал на фюзеляже маленького самолета слова: «Хватит войн! Любовь! Мир!», — нарисовал на крыльях по цветку, сел в кабину, запустил двигатель и улетел. Куда? Неизвестно.
Антониони встречался с сотнями людей — руководителями и участниками разных молодежных движений в Америке. Он пришел к выводу, что процесс, который происходит в психологии и мировоззрении молодых американцев — очень глубокий и далеко идущий.
— Я неплохо знаю английскую молодёжь, — говорил он мне. — Там тоже происходят изменения. Но по сравнению с Америкой — они поверхностны. Если ребята стали иначе одеваться и иначе причесываться, вовсе не значит, что у них изменились взгляды на жизнь.
Он решил, что нашёл здесь молодёжь, которая глубоко и серьезно ищет новых путей в жизни. Он решил, что следующий свой фильм будет снимать здесь.
— Американская молодёжь, пожалуй, самое неожиданное и интересное явление сегодня на Западе.
Сюжет? Между двумя городами — Лос-Анджелес и Лас-Вегас (городами — символами американского счастья, американской мечты) — он нашёл местечко в Долине Смерти. Оно называется — Точка Забриски — Забриски Пойнт (фильм будет называться так же). Бензоколонка, десяток домиков и маленький отель. Вокруг — песок, пустыня. Здесь встречаются парень и девушка, ушедшие из городов-символов.
Вот всё, что он мне сказал. Наверное, сценарий был ещё не завершён. Я сужу вот по чему. Я рассказал ему о той встрече с белой спортивной машиной на безлюдной дороге у реки Миссисипи, когда один из четырёх молодых её пассажиров целился в нас из винтовки.
Я рассказал об этом Антониони просто так, к слову.
Он выслушал внимательно и сказал тихо:
— Смешная страна. Смешная… — Потом добавил: — Можно я возьму этот эпизод в фильм? Он таким и будет — неожиданным и без объяснений.
Он нашёл для своих героев двух непрофессиональных актёров. Парня зовут Марк Фречетте, девушку — Дарья Хэлприн. В фильме сохраняются их имена. Она — дочь актера. Он — сотрудник маленькой газетенки в Бостоне, ходил на демонстрации в защиту доктора Спока.
Агент МГМ (голливудская фирма «Метро Голдвин Мейер», с которой у Антониони контракт), нашедший Марка, рекомендуя его для пробы, сказал: «Я нашел вам парня, который действительно умеет ненавидеть».
— Это не ненависть, — говорит Антониони. — Они ещё не умеют ненавидеть.
Он собирался три месяца снимать и потом три месяца монтировать.
— Больше всего я люблю монтаж. Это самая творческая часть работы. Через шесть месяцев картина будет готова.
Но разговор был в июле. Прошло уже пять месяцев! В МГМ мне сообщили сегодня, что Антониони в самом разгаре съёмок.
Может быть, главная причина задержки — попытки «продраться» сквозь Голливуд?
— Я бы никогда не приехал в Голливуд делать фильм. Ещё ни один европейский режиссёр не сделал здесь хорошего фильма. Но делать фильм самостоятельно — нет денег.
Неожиданно спросил сам:
— Как вам понравился Голливуд?
— Интересно, — сказал я. Не потому, что осторожничал, а потому, что журналисту, приехавшему впервые в Голливуд, он действительно интересен.
— По-моему, это страшно, — сказал он тихо, — страшно. Самодовольный, богатый, немощный и грязный старик. Уже ничего не может сам, но может покупать. Вы знаете, в 1967 году они сделали только восемьдесят картин. А раньше делали по восемьсот, интересно это проанализировать.
— У вас нет никакой надежды насчёт Голливуда?
— Вы имеете в виду искусство?
— Да.
— Никакой. Я стараюсь, чтобы в моей съёмочной группе было как можно меньше людей из Голливуда. Даже подсобных, даже второстепенных. Они пропитаны голливудскими традициями, штампом, самодовольством. — Он усмехнулся: — Когда молодым ребятам, которых я снимаю в фильме, говорят, что я работаю вместе с МГМ, они отказываются сниматься — говорят, что это предательство. Мне приходится им объяснять, что я делаю это, только чтобы по лучить деньги. У меня нет денег. У МГМ есть. Почему мне не взять их деньги, если это даст мне возможность сказать то, что я хочу? Но мне нужна абсолютная независимость от них. Не только юридическая независимость. Но и независимость от их атмосферы, от здешних традиций. Если мне не удастся продраться сквозь них, я откажусь от идеи…
Он это сказал запальчиво. Мне показалось, что, может быть, именно сегодня у него были тяжелые переговоры с «немощным и самодовольным стариком».
Я спросил, что он собирается снимать после этого фильма.
Он махнул рукой.
— Пройдёт шесть месяцев. За это время так много изменится в мире. Разве можно сейчас сказать, над чем будешь работать?
Я подивился тогда этой, я бы сказал, журналистской привязанности большого художника к событиям и времени. И, честно говоря, тогда не думал, что за это время произойдёт много изменений в молодёжном движении Америки. Но с того времени действительно очень многое изменилось. Уже через месяц был Чикаго. Я не знал, что Антониони приезжал в Чикаго в те горячие дни, иначе я обязательно повидался бы с ним. Но я могу представить себе, что чувствовал он тогда возле знаменитого теперь отеля «Конрад Хилтон», когда полиция избивала молодежь. Я могу себе представить, как много нового эти чувства принесли в его будущий фильм.
В одном из интервью после Чикаго он говорил так: «Молодые люди утверждают, что покончили с этой страной. Что они не верят в неё больше… Но они верят. Даже в Чикаго. Я был там. Я видел, что ребята не поняли, что с ними произошло. Это было страшно. Они говорят: „В следующий раз мы придём с оружием“. Но позже они увидят, что не смогут стрелять, потому что они ещё не отчаялись до конца. Это ещё не то отчаяние, которое заставляет стрелять. Вы знаете, в Америке люди типа Никсона производят на свет свою полную противоположность… Во времена Эйзенхауэра были битники. Джонсон породил хиппи. А Никсон? Что будет при Никсоне?
Но, как бы ни был открыт сценарий для новых эпизодов, мне трудно представить, что можно вплавить в него те изменения, которые произошли в Америке, условно говоря, после Чикаго.
За это время в общем-то умерли хиппи. Я не имею в виду внешнее проявление этого движения — бороды и наряд. Чикаго испугал тех, кто играл в протест или оказался слаб духом. Ну а тех, кто был искренен и. не был намерен бежать, Чикаго заставил, пожалуй, понять бессмысленность игры в цветочки с этим обществом».