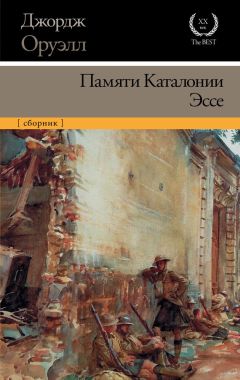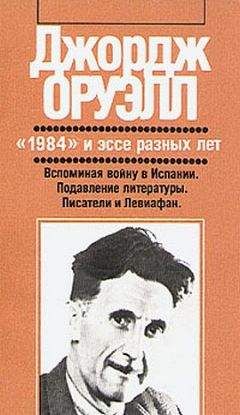Все это привело меня в смятение. Что все это значит? Запрещение ПОУМ я еще мог понять, но аресты?.. Никаких причин к тому не было. Несомненно, запрещение ПОУМ имело обратную силу: теперь партия была нелегальной и, следовательно, все, ранее в ней состоявшие, нарушили закон. Как обычно, никому из арестованных не предъявили обвинения. Но это не помешало коммунистическим газетам Валенсии окрестить все произошедшее гигантским «фашистским заговором», включавшим радиосвязь с противником, документы, написанные невидимыми чернилами, и так далее. Я уже рассказывал о подобных вещах ранее. Показательно то, что о «заговоре» писали только в газетах Валенсии; думаю, что не ошибусь, если скажу: о запрещении ПОУМ не упомянула ни одна газета в Барселоне – ни коммунистическая, ни анархистская, ни республиканская. О характере обвинений против руководителей ПОУМ мы впервые узнали не из испанской прессы, а из английских газет, появившихся в Барселоне на второй или третий день. В то время мы еще не знали, что правительство не несет ответственности за обвинения ПОУМ в предательстве и шпионаже и что впоследствии члены правительства опровергнут эти обвинения. До нас смутно доходило, что руководители ПОУМ и, видимо, все члены партии обвиняются в сотрудничестве с фашистами. Распространились слухи, что в тюрьмах тайно расстреливают арестованных. Здесь не обошлось без преувеличений, но такие случаи действительно были – в частности, трудно сомневаться в факте расстрела Нина. После ареста его переправили в Валенсию, затем в Мадрид, а 21 июня в Барселоне уже говорили, что Нин расстрелян. Позже слухи обрели более определенную форму: тайная полиция расстреляла Нина в тюрьме, а тело выбросили на улицу. Об этом рассказывали разные люди, в том числе Федерика Монтсени, ранее – член правительства. С того времени о Нине никто больше не слышал. Когда впоследствии делегаты из разных стран спрашивали о нем членов правительства, те неуверенно отвечали, что Нин исчез и никто о нем ничего не знает. В некоторых газетах даже писали, что он переметнулся к фашистам. Эти сведения не подтвердились, и Ирухо, министр юстиции, позднее заявил, что испанское агентство печати исказило его официальное сообщение[58]. Во всяком случае, кажется невероятным, что такому важному политическому заключенному, как Нин, удалось бежать. Если в ближайшем будущем мы о нем ничего не услышим, придется признать, что его убили в тюрьме.
Слухи об арестах не прекращались, и так продолжалось до тех пор, пока число политических заключенных, не считая фашистов, не стало исчисляться тысячами. Характерно, что низшие полицейские чины стали проявлять самоуправство. Многие задержания были явно незаконными, но когда по приказу начальника полиции людей освобождали, их тут же снова арестовывали на выходе и увозили в «секретные тюрьмы». Типичная история произошла с Куртом Ландау и его женой. Их арестовали примерно 17 июня, и Ландау немедленно «исчез». Ничего не зная о судьбе мужа, его жена томилась в тюрьме еще пять месяцев без предъявления обвинения. Она объявила голодовку, и только тогда министр юстиции соблаговолил сообщить ей о смерти Ландау. Вскоре ее освободили, но тут же снова арестовали и бросили в тюрьму.
Было заметно, что полиция поначалу не проявляла никакого интереса к тому, как ее действия отзовутся на ходе войны. Они могли без всякого ордера арестовать военных офицеров, занимавших ответственные посты. В конце июня генерал Хосе Ровира, командовавший 29-й дивизией, был арестован почти на передовой полицейским отрядом, посланным из Барселоны. Его подчиненные отправили делегацию с протестом в военное министерство. Выяснилось, что ни военное министерство, ни Ортега, глава полиции, ничего не знают об аресте генерала. Во всех этих историях меня больше всего возмущало то, что такие новости скрывают от фронтовиков. Как известно, ни я, ни те, что находились на фронте, ничего не слышали о запрещении ПОУМ. Все штабы ополчения ПОУМ, центры Красной помощи и так далее работали в обычном режиме, и еще 20 июня в районе Лериды, всего в ста милях от Барселоны, никто не знал, что происходит. В барселонских газетах об этом не писали (газеты Валенсии, изощрявшиеся в сочинении «шпионских историй», не доходили до Арагонского фронта), а арест отпускников ПОУМ проводился с целью не допустить, чтобы они вернулись на фронт с такими новостями. Набор ополченцев, с которыми я 15 июня отправился на фронт, вероятно, был последним. Я до сих пор теряюсь в догадках, как удалось держать подобные действия в секрете: ведь грузовики с провиантом и прочие машины курсировали туда и обратно, но тем не менее это удавалось. Позже я узнал от многих ополченцев, что они действительно несколько дней ни о чем не знали. Причина понятна: началась атака на Уэску. Ополченцы ПОУМ все еще составляли самостоятельное объединение, и наверху боялись, что, узнав о происходящем, бойцы откажутся воевать. Но, когда тайное стало явным, не произошло никаких перемен. Во время наступления многие ополченцы погибли, так и не узнав, что журналисты в тылу называли их фашистами. Это нелегко простить. Я знаю, что плохие новости от солдат часто скрывают, и иногда это оправданно. Но совсем другое дело – посылать людей в бой, не сказав, что их партия запрещена, руководители обвинены в измене, а друзья и близкие брошены в тюрьму.
Моя жена продолжала рассказывать мне, что случилось с нашими друзьями. Некоторым из англичан и другим иностранцам удалось перейти границу. Когда окружили санаторий имени Маурина, Уильямсу и Стаффорду Коттману удалось избежать ареста, и сейчас они где-то скрывались. Скрывался и Джон Макнейр, который, узнав о запрете ПОУМ во Франции, тут же вернулся в Испанию – безрассудный поступок, но он посчитал, что не может оставить товарищей в беде. В остальном рассказ жены сводился к простым перечислениям: «взяли того-то и того», и опять: «и еще того-то». Казалось, «взяли» почти всех. Я был поражен, что «взяли» Джорджа Коппа.
– Как Коппа? Я думал, он в Валенсии.
Выяснилось, что Копп вернулся в Барселону с письмом из военного министерства к полковнику, командовавшему инженерными частями на восточном фронте. Коппу было известно, что ПОУМ запрещена, но ему даже в голову не могло прийти, что в полиции работают идиоты, которые осмелятся арестовать человека, направленного на фронт с важным поручением. Копп сначала зашел в «Континенталь», чтобы оставить вещи; моей жены в это время там не было, а служащие гостиницы задержали его, рассказывая разные байки, в то время как их коллеги вызвали полицию. Услышав об аресте Коппа, я был вне себя от ярости. Он был моим близким другом. Несколько месяцев я служил под его началом, мы попадали с ним вместе под огонь противника, мне были известны обстоятельства его жизни. Он пожертвовал всем – семьей, гражданством, материальным благополучием, только чтобы поехать в Испанию и сражаться с фашизмом. Покинув без разрешения Бельгию, где он был резервистом, Копп вступил в армию иностранного государства, и потому сильно рисковал, даже без учета того, что ранее помогал нелегально изготавливать снаряжение для республиканского правительства. По возвращении в родную страну он мог надолго сесть в тюрьму. Копп был на фронте с октября 1936 года, прошел путь от рядового ополченца до майора, участвовал во многих боях и был ранен. Я лично видел, как во время майских событий он предотвратил схватку в нашем районе и, думаю, спас десять или двадцать жизней. И в ответ за все это получил тюремную камеру. Предаваться ярости – пустая трата времени, но от такой бессмысленной зловредности лопнет любое терпение.
Тем временем никто не предпринимал попыток «взять» мою жену. Хотя она продолжала жить в «Континентале», полиция ее не трогала. Было ясно, что ее используют как подсадную утку. Но за пару дней до моего возвращения рано утром в наш гостиничный номер заявились шестеро людей в штатском и тщательно его обыскали. Забрали с собой все до последней бумажки, оставив, к счастью, паспорта и чековую книжку. А так – взяли мои дневники, все наши книги, газетные вырезки, которые я собирал месяцами (интересно, зачем они им?), мои военные сувениры, всю переписку. (Заодно прихватили письма, полученные от моих читателей. На некоторые из них я не успел ответить, а теперь у меня и адресов не осталось. Если кто-то, не получивший ответа, читает эти строки, прошу принять их как мое извинение.) Как я узнал позже, полицейские забрали оставленные мною вещи также и из санатория. Унесли даже узелок с моим грязным бельем. Возможно, предполагали, что найдут на нем послания, написанные симпатическими, «невидимыми» чернилами.
Для моей жены было безопаснее оставаться в гостинице, по крайней мере, некоторое время. Если она попытается улизнуть, ее сразу бросятся искать. Мне же оставалось только прятаться. Эта перспектива внушала отвращение. Несмотря на массовые аресты, я не мог поверить, что мне грозит опасность. Слишком бессмысленным это казалось. Впрочем, такой же отказ принять всерьез надвигающуюся угрозу привел Коппа в тюрьму. «Почему кто-то захочет меня арестовать? – говорил я себе. – Что я такого сделал? Я даже не был членом партии ПОУМ. Да, при мне было оружие во время майских боев, но оно было примерно у сорока-пятидесяти тысяч людей». Кроме того, я так отчаянно нуждался в нормальном ночном сне, что был готов рискнуть и переночевать в гостинице. Но жена об этом и слышать не хотела. Она терпеливо разъясняла мне создавшееся положение. Неважно, что я сделал и чего не сделал. Речь шла не о рядовой полицейской облаве – наступило царство террора. Меня не обвиняли в каком-то неблаговидном поступке, меня обвиняли в том, что я троцкист. Того, что я служил в ополчении ПОУМ, достаточно, чтобы заточить меня в тюрьму. Бессмысленно уповать на английский принцип: ты в безопасности, пока не нарушаешь закон. Практически все, что делает испанская полиция, считается законным. Оставалось только залечь на дно и делать вид, что ничто не связывает тебя с ПОУМ. Мы проверили все мои карманы. Жена настояла на том, чтобы я порвал удостоверение ополченца, на котором стояла большая печать ПОУМ, а также фотографию группы ополченцев на фоне флага ПОУМ. Все это могло стать поводом для ареста. Правда, я сохранил свидетельство о моем увольнении со службы, хотя и оно представляло опасность: на нем стояла печать 29-й дивизии, а полиция могла знать, что в ней служили бойцы ПОУМ. Впрочем, без него меня могли арестовать как дезертира.