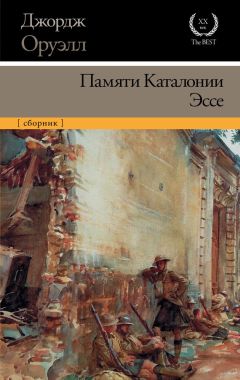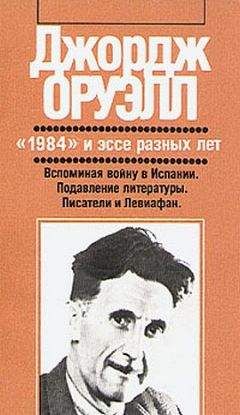Штурмовые отряды рыскали по всему городу, гражданская гвардия удерживала в своих руках кафе и другие здания в стратегических районах, а занятые ПСУК дома были по-прежнему завалены мешками с песком и забаррикадированы. В разных частях города располагались контрольные посты – карабинеры останавливали там прохожих и проверяли документы. Меня предупредили не предъявлять удостоверение ополченца ПОУМ, а показывать только паспорт и справку из госпиталя. Становилось опасно быть даже ополченцем ПОУМ. Раненых или находящихся в отпуске ополченцев всегда встречали с разными мелкими придирками – например, им под разными предлогами задерживали выплату жалованья. «Ла Баталла» все еще выходила, но в ней мало чего оставалось после вмешательства цензуры, такую же жестокую цензуру претерпевали «Солидаридад» и прочие анархистские газеты. По новым правилам места запрещенных цензурой материалов нельзя было оставлять пустыми, а следовало заполнить чем-то другим. В результате невозможно было с точностью установить, что именно вырезали цензоры.
Недостаток продовольствия, ощущавшийся на протяжении всей войны, вступил в острую фазу. Не хватало хлеба, в дешевые сорта добавляли рис; поступавший в казармы хлеб напоминал оконную замазку. Молоко и сахар были почти не доступны, не говоря уж о табаке, – в обращении ходили только дорогие контрабандные сигареты. Существовал дефицит оливкового масла, которым испанцы пользуются во многих случаях. У магазинов, торгующих оливковым маслом, выстраивалась длинная очередь из женщин. За порядком следили конные гвардейцы, которые иногда развлекались тем, что пятились в толпу, не заботясь о том, что кони могут оттоптать женщинам ноги. Раздражало также отсутствие разменной монеты. Серебро изъяли из обращения, а новые монеты не выпускали. Между десятью сантимами и банкнотой в две с половиной песеты не было никаких других денег, а деньги ниже десяти песет встречались редко. Для бедных слоев населения это означало ухудшение материального положения. Женщина с десятью песетами могла простоять в очереди несколько часов и ничего не купить: у продавца не было сдачи, а она не могла позволить себе истратить все деньги.
Трудно передать весь кошмар того времени: всевозможные тревожные слухи постоянно менялись под влиянием газетной цензуры и постоянного присутствия вооруженных людей. Трудно передать – еще и потому, что в Англии сейчас нет ничего, что способствовало бы созданию такой атмосферы. Политическая нетерпимость еще не стала в Англии нормальным явлением. Конечно, и там существуют случаи политического преследования: будь я шахтером, постарался бы скрыть от хозяина свои коммунистические убеждения. Однако «партийный активист», «гангстер от политики» – такие фигуры в Англии встречались не часто, а понятия «ликвидировать» или «убрать» тех, кто с тобой не согласен, еще не прижились. Но в Барселоне это стало естественным делом. «Сталинисты» были на коне, и «троцкисты» чувствовали себя в постоянной опасности. То, чего все боялись – новой вспышки уличных боев, а их обязательно свалили бы на ПОУМ и анархистов, – к счастью, не случилось. Иногда я ловил себя на том, что прислушиваюсь: нет ли выстрелов. Казалось, по городу разлилось некое могучее зло. Все это чувствовали и об этом говорили. Удивительно, что люди выражали свои страхи почти в одних и тех же словах: «Какая ужасная здесь царит атмосфера. Как будто находишься в сумасшедшем доме». Впрочем, зря я говорю обо всех: некоторые англичане, которые провели в Испании недолгое время, порхая из гостиницы в гостиницу, не заметили в обстановке ничего особенного. Так герцогиня Атольская писала в «Санди экспресс» от 17 октября 1937 года:
Я посетила Валенсию, Мадрид и Барселону… во всех городах царит порядок, никакого насилия. Все гостиницы, в которых я останавливалась, были не только «нормальными» и «приличными», но и весьма комфортабельными, несмотря на трудности с маслом и кофе.
Такова особенность английских путешественников – не верить в существование чего-то, помимо удобных гостиниц. Надеюсь, для герцогини Атольской масло все-таки отыскали.
Я лечился в санатории имени Маурина, находящемся в ведении ПОУМ. Он был расположен неподалеку от Тибидаб, странной формы горы, возвышающейся сразу за Барселоной. Считается, что именно на ее вершине Сатана искушал Иисуса земными благами, отсюда и ее название[56]. Сам дом, экспроприированный во время революции, раньше принадлежал богатому буржуа. Здесь долечивались те, кого по состоянию здоровья освободили от военной службы, а также те, которые навсегда остались инвалидами, лишившись конечностей, и так далее. Кроме меня, здесь были еще англичане: Уильямс с ранением ноги, восемнадцатилетний Стаффорд Коттман с подозрением на туберкулез и Артур Клинтон с размозженной левой рукой, он носил ее на длинном проволочном приспособлении, которое в испанских госпиталях называли «аэропланом». Жена по-прежнему жила в гостинице «Континенталь», и днем я обычно ездил в Барселону. Утром я ходил на электротерапию. Необычные ощущения – от серии острых электрических уколов мускулы на руке дергались, однако лечение помогало: пальцы обретали подвижность, а боль становилась меньше. Мы с женой решили, что надо как можно скорее вернуться в Англию. Я очень ослабел, голос так и не возвращался, и врачи утверждали, что в лучшем случае я смогу вернуться в строй только через несколько месяцев. В конце концов придется зарабатывать деньги – нет смысла торчать в Испании и есть хлеб, в котором нуждались другие. Но мои мотивы были в основном эгоистического порядка. Мне хотелось поскорее убраться отсюда, не дышать этим жутким воздухом подозрительности и ненависти, не видеть улицы, по которым ходят толпы вооруженных людей, я устал от воздушных налетов, окопов, пулеметов, скрежета трамваев, чая без молока, еды на оливковом масле, нехватки сигарет – от всего того, что у меня теперь ассоциировалось с Испанией.
Врачи из Центрального госпиталя признали меня негодным к военной службе, но для окончательного увольнения следовало пройти медицинскую комиссию в прифронтовом госпитале, а затем получить в Сиетамо бумаги с печатью в штабе ополчения ПОУМ. В это время с фронта вернулся преисполненный радужных надежд Копп. Он участвовал в последних боях и уверял, что Уэска вот-вот падет. Правительство перебросило туда войска с Мадридского фронта, и теперь там было не менее тридцати тысяч человек и много самолетов. Итальянцы, которых я видел в поезде, идущем из Таррагоны, отважно бились за дорогу на Хаку, но понесли большие человеческие потери и лишились двух танков. Однако город обречен, сказал Копп. (Увы! Этого не случилось. Битва за него стала кровавой мясорубкой и закончилась ничем, кроме моря лжи в газетах.) А пока Копп должен был ехать в Валенсию, чтобы взять интервью у военного министра. У него было письмо от генерала Посаса, командующего Восточной армией, в нем Копп характеризовался как «человек, заслуживающий доверия», на которого можно положиться и которому можно поручить специальные задачи в инженерных подразделениях. (В гражданской жизни Копп был инженером.) В Валенсию он выехал в тот же день, как и я в Сиетамо, – 15 июня.
В Барселону я вернулся только через пять дней. Грузовик с такими же, как я, ополченцами въехал в Сиетамо около полуночи. Стоило оказаться в штабе ПОУМ, как нам тут же начали раздавать винтовки и патроны, даже не поинтересовавшись, кто мы и откуда. Началось наступление, и резервы могли потребоваться в любую минуту. В моем кармане лежала медицинская справка, но мне показалось неудобным не пойти вместе со всеми. Я прикорнул на земле, положив под голову коробку с патронами, настроение было хуже некуда. Ранение здорово подорвало мою нервную систему – думаю, так со всеми бывает, – и перспектива снова оказаться под огнем страшила меня. Однако меня спасло обычное испанское manana (завтра), нас никуда не послали, а утром я предъявил медицинскую справку и пошел увольняться. Утомительное, однако, оказалось дело! Меня гоняли из одного госпиталя в другой – из Сиетамо в Барбастро и Монсон, затем опять в Сиетамо, чтобы поставить печати на документах, и обратно, через Барбастро и Лериду. Весь транспорт был направлен на переброску войск к Уэске, и от путаницы на дорогах голова шла ходуном. Где только мне не приходилось ночевать – на больничной койке, в канаве, на узкой скамейке, с которой я посреди ночи свалился, и один раз – в муниципальном общежитии в Барбастро. Если не повезло сесть на поезд, вы были обречены трястись на случайных грузовиках. Тогда приходилось по три-четыре часа торчать у обочины вместе с группами недовольных крестьян, нагруженных узлами с утками и кроликами, и без устали махать проезжавшим машинам. Когда наконец удавалось остановить грузовик, не наполненный людьми, буханками хлеба или ящиками с патронами, вас ожидала тряска по ухабистой дороге, отбивавшей все внутренности. Ни одна лошадь не подкидывала меня так высоко, как эти грузовики. Оставалось только сбиться в кучку и держаться друг за друга. К своему стыду, я обнаружил, что пока не могу вскарабкаться на грузовик без посторонней помощи.