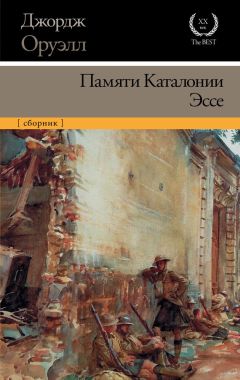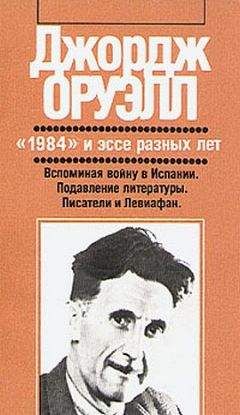Это своеобразно – быть Уитменом в 30-е годы XX века. Вряд ли, живи он в наши дни, Уитмен написал бы что-нибудь даже отдаленно напоминающее «Листья травы». Ведь он и вправду говорит: «Я приемлю», но между «приемлю» тогда и сегодня пролегает пропасть. Уитмен творил во времена невиданного процветания и, что еще важнее, в стране, где свобода была не просто словом. Демократия, равенство, товарищество, о которых он без устали толкует, – не отдаленный идеал, все это было у него перед глазами. В Америке середины XIX века люди ощущали себя свободными и равными, они и были таковыми – насколько это возможно в обществе, где не восторжествовал чистый коммунизм. Существовала бедность, существовали даже классовые различия, но постоянно угнетаемого класса не было, исключая негров. В каждом человеке жило и составляло ядро его личности убеждение, что он в силах добиться достойной жизни, и для этого ему не придется вылизывать чьи-то сапоги. Твеновские плотогоны и лоцманы с Миссисипи, золотоискатели с Дикого Запада Брет Гарта сегодня более далеки от нас, чем каннибалы каменного века. Причина проста: они свободные люди. То же ощущение пронизывает и мирную, обустроенную жизнь восточных штатов Америки, изображенную в таких книгах, как «Маленькие женщины», «Дети Элен», «По дороге из Бендора». До того кипучая, беззаботная жизнь, что, читая эти книги, ловишь себя на чувстве, будто физически ее ощутил. Вот ее и воспевает Уитмен, хотя делает он это очень плохо, потому что он из числа писателей, сообщающих нам, что мы должны чувствовать, вместо того чтобы такие чувства в нас пробудить. Думая о его верованиях, приходишь к мысли: может быть, хорошо, что он умер, не увидев, как ухудшилась жизнь в Америке вместе с ростом индустрии и эксплуатации дешевого труда иммигрантов.
Взгляды Миллера глубоко родственны взглядам Уитмена, и мимо этого не прошел почти никто из его читателей. «Тропик Рака» и заканчивается совершенно по-уитменовски: после всего распутства, махинаций, потасовок, запоев, после всех совершенных им глупостей герой спокойно созерцает бегущие мимо него воды Сены, как бы мистически приемля все как оно есть. Только что же он приемлет? Прежде всего не Америку, а это древнее нагромождение костей – Европу, где каждая крупица земли есть плоть от плоти бесчисленных человеческих тел. Во-вторых, не эпоху расцвета и свободы, а эпоху страха, тирании и запретов. Сказать «я приемлю» в век, подобный нашему, означает приятие концентрационных лагерей, резиновых дубинок, Гитлера, Сталина, бомб, военных самолетов, пищи из концентратов, пулеметов, путчей, чисток, лозунгов, противогазов, страховочных ремней фирмы «Педо», подводных лодок, шпионов, провокаторов, цензуры, тайных тюрем, аспирина, Голливуда, политических убийств. Не только этого, конечно, но и этого тоже. Генри Миллер в целом к такому приятию готов. Правда, не всегда, ибо моментами он ощущает ностальгические чувства, которые так обычны в литературе. В первой части «Черной весны» пространно восхваляется Средневековье, причем эти страницы можно отнести к числу самых замечательных в прозе последних лет, хотя по тональности они мало чем отличаются от написанного Честертоном. В «Максе и белых фагоцитах» (опубликовано в 1935 году) осуждается современная американская цивилизация (готовые завтраки, целлофан и прочее) с точки зрения, обычной для литераторов, ненавидящих индустриализацию. Но в целом он готов «проглотить все целиком». Отсюда и кажущееся чрезмерным увлечение непристойностями и грязью оборотной стороны жизни. Кажущееся, ибо истина заключается в том, что обыденность куда больше изобилует ужасами, чем готовы признать беллетристы. Тот же Уитмен «принимал» многое такое, чего не отваживались назвать вслух его современники. Ведь он пишет не только о прериях, но слоняется по городским улицам, подмечая раздробленный череп самоубийцы, «серые, больные лица онанистов», да только ли это? Но нет сомнений, что наше время, по крайней мере в Западной Европе, более болезненно, более безнадежно, чем то, в которое творил Уитмен. В отличие от Уитмена мы живем в угасающем мире. «Демократические дали» увенчались для нас колючей проволокой. Все реже замечаем мы созидание и рост, все реже чувствуем вечное покачивание колыбели – вместо нее нам уготован вечно свистящий чайник. Принять цивилизацию как она есть фактически означает примириться с разложением. Мужество сменилось пассивностью, даже «декадентством», если это слово обладает каким-то смыслом.
Но именно благодаря тому, что Миллер в определенном смысле пассивен перед жизнью, ему удается подойти к обыкновенному человеку ближе, чем это получается у писателей, ставящих перед собой некую цель. Ведь обыкновенный человек тоже пассивен. В сфере мелочного (дом, возможно, профсоюз, локальные политические заботы) он чувствует себя хозяином своей судьбы, но перед лицом крупных событий он беззащитен, как под ударами стихии. Он и не помышляет воздействовать на будущее, он безвольно вникает и покоряется ходу вещей. Последние десять лет литература все глубже втягивалась в политику, и в итоге в ней осталось меньше места для обыкновенного человека, чем когда-либо за два истекшие столетия. Эту перемену легко почувствовать, сравнив книги о гражданской войне в Испании с книгами о войне 1914–1918 годов. Сразу бросается в глаза, до чего скучны и попросту плохи книги об испанской войне, по крайней мере, те из них, что написаны по-английски. Но еще существеннее, что почти все они, будь их автор «правым» или «левым», написаны завзятыми политиками, которые уверены в своей правоте и навязывают вам собственный образ мыслей, тогда как о мировой войне писали простые солдаты или младшие офицеры, даже не делавшие вид, будто постигли происходящее. Такие книги, как «На Западном фронте без перемен», «Огонь», «Прощай, оружие!», «Расставаясь с этим навсегда», «Воспоминания офицера пехоты», «Субалтерн на Сомме», написаны не пропагандистами, а жертвами. В сущности, говорят они все об одном: «Да что же это творится? Одному Богу известно. Нам остается лишь терпеть». И Миллеру, хотя он не описывает войну, как в общем-то и тягость жизни, эта позиция куда ближе, чем всеведение тех, кто теперь в моде. «Бустер», быстро прекративший существование журнал, соредактором которого он был, рекламировал себя как орган «не политический, не образовательный, не прогрессивный, не наставляющий, не этический, не литературный, не содержательный, не современный»; творчество самого Миллера можно охарактеризовать почти так же. Это голос из толпы, голос отверженных, голос из вагона третьего класса, голос обыкновенного, далекого от политики, чуждого морализма, пассивного человека.
Я обращаюсь с понятием «обыкновенный человек» несколько вольно, не сомневаясь, что таковой существует, хотя сегодня некоторые отрицают это. Вовсе не хочу сказать, что люди, о которых повествует Миллер, составляют большинство, и тем более – что он пишет о пролетариях. Серьезных попыток такого рода пока не предпринимал ни один английский или американский романист. Персонажи «Тропика Рака» не вполне обыкновенны в том смысле, что ведут праздную жизнь, обладают скверной репутацией и отчасти принадлежат к «артистической» среде. Как я уже говорил, это прискорбный, но неизбежный итог жизни вне родины. «Обыкновенный человек» Миллера – это не работяга, не домовладелец из пригорода, а изгой, деклассированный элемент, авантюрист, лишенный корней американский интеллектуал без гроша в кармане. Но бытие даже такого персонажа имеет много общего с жизнью заурядных людей. Миллеру удалось извлечь максимум из этого довольно скудного материала, так как он нашел в себе смелость с ним слиться. И обыкновенный человек, «средний индивид», подобно валаамовой ослице, обрел дар речи.
Правда, все это устарело или, по крайней мере, вышло из моды. «Средний индивид» уже не в моде. Не в моде и пристальное внимание к сексу, к откровениям внутренней жизни. Не в моде американский Париж. В наше время такая книга, как «Тропик Рака», должна выглядеть либо скучной претенциозностью, либо чем-то совершенно необычным, и думаю, что большинство из читавших ее не станут относить ее к первой категории. Постараемся же разобраться, что означает знаменуемое ею неприятие сегодняшней литературной моды. Но для этого нужно увидеть книгу Миллера на фоне всего развития английской литературы за двадцать лет после мировой войны.
Когда писателя называют модным, почти всегда имеют в виду, что он нравится тем, кому еще не исполнилось тридцати. В начале периода, о котором я говорю, во время войны и после нее, властителем юных умов был, конечно, Хаусмен. Среди тех, чья юность пришлась на 1910–1925 годы, влияние Хаусмена было огромным, и сейчас это уже не так просто объяснить. В 1920 году – мне тогда было семнадцать лет – я знал на память всего «Парня из Шропшира». Интересно, произведет ли теперь «Парень из Шропшира» впечатление на юношу того же возраста и примерно того же склада ума? Он наверняка слыхал об этом цикле, может быть, даже заглядывал в него, и стихи показались ему ловко скроенными, но пустоватыми – вот, думаю, и все. А ведь мои сверстники и я без устали твердили эти стихи наизусть, испытывая своего рода экстаз, сравнимый с тем, который охватывал предыдущие поколения, упивавшиеся «Любовью в долине» Мередита, «Садом Прозерпины» Суинберна и так далее.